«Литания Земли» (перевод рассказа Рутанны Эмрис)
От редакции. Публикуем эксклюзивный перевод ревизионистского лавкрафтианского рассказа американской писательницы Рутанны Эмрис «Литания Земли», засветившегося в 2015‑м в лонг-листе «Хьюго» и являющегося чем-то вроде вольного продолжения «Морока над Инсмутом». Подробнее о сюжете можно прочесть, например, здесь.
От себя же добавим, что хотя переосмысление творчества Лавкрафта в социальном ключе началось даже не в этом веке, следить за его новыми примерами по-прежнему интересно. Хотя, пожалуй, наиболее сильным комментарием ко всему Лавкрафту на сегодняшний день является большой графический роман «Провиденс» Алана Мура, полемика защитников социальной справедливости с автором стихов вроде «On the Creation of Niggers» (загуглите) всё равно заслуживает внимания. Особенно – когда они не предлагают сбросить дедушку Говарда Филлипса с корабля современности, а пытаются по-новому осмыслить его роль в культуре как медиума коллективного бессознательного своей эпохи.
Раздутый его последователями пантеон, бесконечные битвы Древних Богов да и, наверное, традиция тифонианской магии (спасибо Кеннету Гранту и прочим) создали устоявшийся в умах образ Лавкрафта-оккультиста и Лавкрафта-мифотворца. Образ, который, конечно, имеет право на жизнь, но задвигает на второй план куда более важный образ – Лавкрафта-визионера, барометра 20—30‑х годов, стихийного певца угрюмых неврозов, разочарований, жути и шовинизма своей эпохи в сеттинге Новой Англии, где тёмные подвалы, осклизлость, неуютность, зыбкость реальности и подстрочники с намёками на запретные тайны душ человеческих были куда важнее, чем югготские «звёздные войны» в неевклидовой геометрии.
После года в Сан-Франциско мои ноги окрепли. Между квартирой, где я жила с Котосами, и книжной лавкой, где я работала, было полтора холма. Каждые утро и вечер я шагала, вдыхая туман и дождь обожжёнными пустыней лёгкими, и с каждым утром прогулка становилась всё легче. Даже поначалу, когда ноги ныли весь день от непривычной нагрузки, – всё же это, что ни говори, полтора холма, а предыдущие семнадцать лет я не видела и одного.
По вечерам радио пересказывало, что я пропускала: охватившая планету война, зверства в Европе, что превосходили даже учинённые над обоими нашими народами. Мы – я с Котосами – не ждали, когда наших пленителей наконец настигнет правосудие. Японо-американское сообщество по большей части хотело забыть лагеря. А мой народ – который обрекли на лагеря задолго до того, как к нам сослали народ Котосов, и от которого уже никого не осталось, – не привык мечтать о невозможном.
Тем утром я получила письмо от брата. Калеб писал нечасто, и слышать от него было равно и облегчением, и неприятным напоминанием. Его грамматика была хороша, но почерк и орфография выдавали недостаток уроков. Он писал:
«Горот разрушин, но не весь. Дома ещё стоят; даже есть цельные окна. Давным-давно за ним ещё очень присматривали, но с тех пор забросили или игнариравали».
И:
«Я обыскал нашу библиатеку, и в других домах, но ни книги ни листочка. Я просил разрешить пустить к колекции в Мискатонике, но мне отказали. Отчень боюсь, что сильно важные фалианты бросили на каком-нибуть складе и забыли – как нас».
Итак, библиотека нашей семьи всё же утеряна. Я помнила запах старых страниц, помнила отца, склонившегося надо мной, длинные пальцы, скользящие по трудной строчке, которую он пытался мне истолковать, и как вклинивалась мать с простым объяснением, проникающим в самую суть. А теперь единственные книги, что мне остались, – элементарные тексты и один-единственный детский учебник заклинаний в подсобке лавки. Они принадлежали Чарли – моему начальнику, – и я согласилась обменять на доступ к ним свои полузабытые детские воспоминания о енохианском и р’льехском.
При моём появлении Чарли поднял взгляд и нахмурился. Так он встречал меня с самого первого прихода, когда я просилась на работу, и, насколько я знала, подобного же приветствия удостаивались все покупатели.
– Мисс Марш.
Я закрыла глаза и вдохнула сладкую книжную пыль.
– Я не опоздала, мистер Дэй.
– Перепись нужно закончить этим утром. Начни с вестернов.
Я убрала сумочку за стойку и направилась к стопкам Эдгаров Райсов Берроузов и Зейнов Греев с мягкими обложками и мятыми корешками.
– Что мне в тебе нравится, – сказала я честно, – так это что ты не притворяешься воспитанным.
– И обсохни сперва, – но на сей раз без поучений, что мне нужны зонтик или дождевик. Без вопросов, почему я люблю влажность и прохладу едва ли не больше, чем компанию старых книг. Чарли не был лишён воображения, но своё любопытство он держал при себе.
Всё утро я разбирала книги по полкам. Иногда читала случайный отрывок, упиваясь невозможным великолепием чернил, складывавшихся в осмысленные узоры. Изредка я читала вслух Чарли, который в ответ фыркал и возвращался к работе или зачитывал отрывок в ответ.
В полдень я стояла на кассе, а Чарли занимался чем-то особенно хлопотным в кулинарном отделе. Зазвенели колокольчики. Внутрь заглянул мужчина, осторожно принюхался и направился прямиком ко мне.
– Прошу прощения. Я ищу книги по оккультизму – для исследования, – он улыбнулся – чересчур открытое выражение коммивояжера, словно он напрашивался на отказ. Я показала на полку, где мы держали Кроули и прочую чепуху, и вернулась за стойку, сосредоточенно нахмурившись.
Через пару минут он вернулся.
– Не совсем то, что мне нужно. У вас имеется что-то более… эзотерическое?
– Боюсь, нет, сэр. Только то, что есть на полках.
Он наклонился над стойкой. Его запах – обыкновенный пот и слабый одеколон – покоробил мой слух, и я слегка отодвинулась.
– Может, что-нибудь в подсобке? Уверен, у вас найдется что-нибудь поинтереснее, чем эти прохвосты с рубежа столетий. Скажем, Аль-Хазред? «Vermis» Принна?
Я постаралась не выдать себя. Я знала характерную внешность старых семей, и он был не из них: высокий, темноволосый, с тонкими чертами – теми, что считаются привлекательными, за исключением разве что квадратного носа. И он не думал скрывать, что знаком с эонистским каноном, в отличие от Чарли. Либо дурак, либо вёл какую-то игру.
– Никогда ни о чём подобном не слышала, – отвечала я. – Мы не специализируемся на эзотерике; боюсь, вам придётся попытать удачи в другой лавке.
– Думаю, незачем, – он выпрямился и я снова отшатнулась. На его лице опять возникла улыбка – похоже, задуманная как дружелюбная, но скорее напоминающая грозный оскал обезьяны. – Мисс Афра Марш. Мне известно, что вы знакомы с подобной тематикой, и уверен, мы сумеем друг другу помочь.
Мне удалось не выдать своих чувств и ответить ему самым лучшим презрительным взглядом моей матери.
– Вы меня с кем-то путаете, сэр. Если вас не устраивает наш выбор, настойчиво рекомендую обратиться в другое место.
Он пожал плечами и поднял руки перед собой.
– Может быть, позже.
Когда звонок обозначил его уход, за стойку прихромал Чарли.
– Покупатель?
– Нет, – руки дрожали, я сцепила их за спиной. – Он выспрашивал о твоей личной полке. Чарли, он мне не нравится. Я ему не доверяю.
Он снова нахмурился и бросил взгляд на дверь в подсобные помещения.
– Вор?
На самом деле это был бы неплохой вариант. Я чувствовала, как в горле трепещет пульс.
– Если так, то весьма осведомлённый.
Чарли наверняка заметил, как я держалась. Он отыскал металлический термос и молча предложил мне. Я отрицательно покачала головой, но вдруг после прилива слабости очутилась на полу. Обхватила колени руками и на прочие предложения только качала головой.
– Ему нужны книги, – наконец выдавила я. – А может, ему нужны мы.
Он присел рядом, неуклюже из-за больного колена и скрипящих суставов, уже смирившихся со своей неизбежной смертностью.
– Из-за книг?
Я снова покачала головой.
– Да. Или из-за тех, кто их обычно хранит, – я уставилась на свои перепончатые пальцы, длинные и костлявые, слово они подумывали отрастить лишние фаланги. Я не могла объяснить ему свой страх – что мужчина с улыбкой вернется с другими мужчинами, и оружием, и фургонами с замками на кузовах. А ведь он наверняка всего лишь неуклюжий дилетант, совершенно безвредный. – Он знал, как меня зовут.
Чарли с оханьем опустился в кресло.
– Вряд ли он из этих самых Йит, про которых ты рассказывала?
Я подняла голову, поражённая его мыслью. Я всегда считала Великую расу серьёзной и мудрой, а встреча с ними считалась большой удачей. Но, если они чего-то хотели, они также были известны заносчивостью и резкостью. Оптимистичный вариант.
– Вряд ли. У них имеются особые фразы, тайные способы раскрыться тем, кто о них знает. Боюсь, это всего лишь человек.
– Ну, – Чарли поднялся на ноги. – Поделать тут нечего, разве что когда он вернётся. Хочешь уйти домой пораньше?
Это было щедрое предложение, особенно от Чарли, но я не могла стерпеть мысли, что выглядела так, будто мне это нужно. Я встала с пола, медленно и неловко из-за пережитого страха.
– Спасибо. Лучше останусь. Только предупреди, если опять его заметишь.
* * *
Первая перемена в моей жизни, которую также предвестил покупатель…
Не прошло и месяца с моего возвращения в мир. Я всё ещё слаба, кожа болезненно-жёлтая от недоедания и обезвоживания. После первого же взгляда в зеркало я срезала хрупкие локоны, и новые отрастали неровно, но здоровыми, густыми и тёмными, как у матери. Волосы взрослой женщины, доселе мне незнакомые.
Я расставляю книги, когда слух обжигает знакомая фраза. В груди бьются надежда и страх, я подхожу ближе и напрягаю слух.
Блондин хочет продать Чарли «Книгу Серого народа», но скоро становится очевидно, что он не знает о ней ничего, кроме названия. Следует быть осторожней, выбирать с умом, что о себе открыть. Но мне нравится Чарли, его сварливость, прямота и что он бесконечно далек от всего, что я любила или ненавидела, и не нравится, когда его надувают.
Блондин вздрагивает от неожиданности, когда я возникаю за его плечом, но, как только хватаюсь за том, чтобы взглянуть на страницы, приходит в себя.
– Минутку, дамочка. Это дорогая книжка.
Я и представить не могла, что выгляжу моложе, чем на свои тридцать.
– Ваша книга – подделка. Это, по-вашему, енохианский?
– Конечно, енохианский! Дайте…
– Аб-кар-рак аль-каз-кар-неф… – зачитываю вслух первый попавшийся абзац. – Это писал человек, который когда-то слышал енохианский и приблизительно помнит его звучание. Но это вздор. И даже алфавит неверный. А переплёт… – я провожу по нему пальцами и передёргиваюсь. – Вот переплёт – из настоящей кожи. Так что для кого-то это оказалась очень дорогая подделка, но он свою цену уже уплатил. Заберите эту мерзость.
Когда блондин уходит, Чарли смотрит на меня. Я внутренне собираюсь, готовая ко всему. В конце концов, мне всегда найдётся место в прачечной с Анной.
– Знаешь енохианский? – спрашивает он. Меня поражает мягкость в голосе – и надежда. Теперь мне, разумеется, уже не соврать, но и больше, чем голую правду, я не говорю.
– Учила в детстве.
Его взгляд бегает по моему лицу; я стараюсь не выдать чувств.
– Думаю, у тебя есть свои секреты, – говорит он наконец. – И я не хочу совать в них нос. Но позволь показать тебе свои, если сможешь сохранить и их.
Этого я не ожидала. Но однажды он всё равно может узнать обо мне что-нибудь, что я пытаюсь скрыть. А когда это случится, мне понадобится причина доверять ему.
– Обещаю.
– Идём, – он переворачивает табличку на входе и ведёт меня в подсобку, прежде запертую всё то время, что я проработала в лавке.
* * *
Я задерживалась, сколько могла, пока не осознала, что если кто-то ищет меня, то Котосы тоже в опасности. Мне не хотелось звонить – телефонные линии могли прослушивать. Он всего лишь подошёл поговорить – может, я его никогда в жизни больше не увижу. И всё же вздрагивать я буду ещё месяц. Раз испытав то, к чему приводят чужие небольшие подозрения, всю жизнь живёшь с оглядкой.
Вечер стоял промозглый, большинству он бы показался зябким. За городом наблюдала луна, мягкая и неполная, её очертания размывал вездесущий туман Сан-Франциско. Из-за эха окружающие предметы казались ближе. Я как будто плыла, меня словно влекло океанскими течениями. Я слизала соль с губ и сотворила молитву. Хотелось бы бросить эту привычку – но ещё сильнее хотелось, чтобы молитва помогла.
– Мисс Марш! – пронзил влажную ночь голос. Я вдохнула чистый туман и продолжала шагать. «Йа, Ктулху…»
– Прошу, мисс Марш, уделите мне всего мгновение, – довольно вежливо, но голос слишком самоуверенный. Я пошла быстрей и превратилась в слух, ожидая его приближения. Мягкие подошвы беззвучны, но каждый шаг обозначало шипящее хлюпанье по мокрой мостовой. Я не могла оглянуться; не могла бежать: это было бы признанием вины. Он бы погнался или попросту прострелил мне затылок.
– Вы ошиблись, – сказала я громко. Голос неожиданно показался мне хриплым карканьем.
Я слышала, как он нагоняет, и вдруг он возник передо мной – туман цеплялся за его высокий силуэт. Волей-неволей пришлось остановиться. Хотелось бежать или звать на помощь – но я не смела.
– Что вам нужно, сэр? – на этот раз непослушные слова вымолвить было проще. Мне вдруг запоздало пришло в голову, что если бы он не знал, кто я такая, то мог бы накинуться на меня, как в лагерях иногда солдаты кидались на японок. Но этого страха во мне не было – я видела в мужчине повадки иного хищника.
– Простите, – сказал он. – Боюсь, наше знакомство началось неудачно. Меня зовут Рон Спектор; я из ФБР…
Он полез было за значком, но подтверждение моих худших страхов уже стряхнуло с меня паралич. Я пнула его окрепшей ногой и бросилась в сторону. Я собиралась бежать домой и предупредить Котосов, но он восстановил равновесие и схватил меня за руку. Я развернулась и вцепилась в него, царапала и молотила, а в голове звенела мысль, что именно так умер мой папа. В любой момент я ждала смертельного выстрела, и боролась, пока могла. Но руки у меня были слабее, чем у папы, и даже ноги не те, что прежде.
Постепенно я осознала, что Спектор только сдерживал меня, а не дрался насмерть. Он всё твердил мое имя и наконец произнес:
– Прошу, мисс Марш! Меня не этому учили! – он снова оттолкнул меня и охнул – под моими ногтями на его запястье выступила кровь. – Прошу! Я не причиню никакого вреда; я лишь хотел поговорить пять минут. Пять минут, обещаю, и потом вы сами решите, уйти или остаться!
Паника спала, и я наконец успокоилась. Всё равно было страшно, что в любой момент он закуёт меня в наручники. Но мы только замерли в немой сцене, вцепившись друг другу в руки. У моих кончиков пальцев по-мышиному дрожал его смертный пульс – я почему-то не сомневалась, что мой ему должен казаться ревущим, как прилив.
– Если я отпущу, станете меня слушать?
Я вдохнула для уверенности солёный туман.
– Пять минут, не больше.
– Да, – он отпустил меня и потёр запястье у наручных часов. – Простите, мне следовало быть осмотрительней. Я знаю, через что вы прошли.
– Неужели? – я с трудом переборола бьющий озноб. Я Марш; мне не должно показывать врагам слабость. Они и так довольно ею упивались.
Он огляделся и аккуратно присел на один из камней, огораживающих ближайший двор. Камень для него оказался низок, колени торчали. Он наклонился вперед – богомол в черном.
– Все конфессии в основном состоят из добрых людей, которые просто хотят жить. Неважно, кому они поклоняются или в какую церковь ходят, или на каком языке молятся. В этом вы со мной согласитесь?
Я сложила руки на груди.
– И в каждой религии найдутся фанатики, желающие творить ужасные дела во имя своего бога. Никого не минует чаша сия, – его губы изогнулись. – Это беда человечества, а не отдельных сект.
– Не стану спорить. Дальше что? – я считала секунды по каплям воды. Я почти видела, как туман опускается на мою кожу, как броня.
Он пожал плечами и улыбнулся. Мне не нравилось, что он держится запросто, при том что от его запястья несло кровью.
– Если вы согласны, вы уже на несколько шагов опережаете правительство США времён окончания Первой мировой войны. В двадцатых у них случились неприятные стычки с парой групп эонистов. Был в Луизиане один культ, который наверняка никогда и не знал оригинального канона, но зато обладал нездоровым воображением. Трупы-жертвоприношения на ветках и тому подобное, – он бросил на меня взгляд, ожидая реакции. Я не пошла на поводу. – Не самый репрезентативный пример, но тогда мы посчитали, что таков обычный порядок. В 26‑м сектантов объявили врагами государства, и мы начали выслеживать всех, кто в воскресный вечер произносил не те имена или ставил в церквях не те статуи. Вы знаете, что было дальше.
Я знала, но плохо представляла, что знал он сам. Было так странно и душно слышать подобные оправдания, хотя он и старался подать их с осуждением.
– Вас не удивит, – продолжал он, – что пострадал не только Иннсмут. В конце концов правительство осознало, что совершает ошибку, но перемены воплотились в жизнь нескоро. Только теперь появляются люди вроде меня, которые действительно изучают культуру эонистов и прикладывают усилия, чтобы отделить зёрна от плевел – хотя и запоздало.
За всю его отрепетированную речь я не шелохнулась.
– Если это извинение, мистер Спектор, то можете в нём утопиться. То, что вы совершили, непростительно.
– Никто не спорит, мы перед вами виноваты, и нам ещё предстоит найти достойное искупление. Но, боюсь, меня прислали к вам из практических соображений, – он прочистил горло и сдвинул колени. – Как можете представить, когда государство охотилось на эонистов, куда проще было ловить добрых людей, живущих себе потихоньку в небольших городках, чем культистов, изощрённых в заговорах и убийствах. В конце концов, злодеи обычно умеют скрываться. И при том мы даже не думали вербовать тех, кто разбирался в предмете, – а через некоторое время к нам бы никто и не пришёл по доброй воле, даже если бы мы искали. И теперь, как и в случае с японо-американским сообществом, мы обнаруживаем, что нам не хватает сил, знаний, что мы настроили против себя людей, которые не представляли угрозы для страны.
У меня ныли глазницы.
– Поверить не могу, что вы хотите меня завербовать.
– Боюсь, именно этого я и хочу. Я могу предложить…
– Ваши пять минут истекли, сэр, – я прошла мимо него, проглотив всё, что ещё хотелось высказать или подумать. Не найдя выхода, гнев хлынул в мою осанку, ноги и кровь.
– Мисс Марш!
Вопреки себе, я остановилась и обернулась. Представила себя со стороны. Глаза выпученные; рот широкий; ноги и пальцы костлявые. «Иннсмутская внешность» – где теперь тот Иннсмут. Чувствовал ли он опасность? Видел что-то более человеческое – или менее? Или видел только уродливую женщину, на мнение которой ему плевать, пока он не услышит то, ради чего пришёл?
Тогда мне нужно расставить все точки над «i».
– Мистер Спектор, я не хочу быть врагом государства. Государство куда больше меня. Но и другом я ему быть не хочу. И если вы так настаиваете, то извольте выслушать, почему. Государство украло почти два десятилетия моей жизни. Государство убило моего отца и отняло у семьи всё, что давало нам силу. Солёную воду. Книги. Знание. Нас уничтожили одного за другим. У моей матери начиналась метаморфоза. Дозволь то океан, она дожила бы до времён, когда солнце прогорит до углей. А они забрали её. Мы знали, что в этот период нас изучают, чтобы лучше понять процесс. Лучше понять, как нас убить. Можете сами представить подробности – как я их тогда представляла. Ни одного тела нам не вернули. Нам ничего не вернули.
А теперь попросите меня ещё раз.
Наконец он склонил голову. Не со стыдом, подумала я, а внимательно слушая. Потом он мягко заговорил.
– Государство непостоянно. Оно меняется. И когда оно меняется, это на пользу всем. Те, кого я прошу вас помочь остановить, действительно вредят остальным. И те, кому они вредят, даже не представляют, что пережила ваша семья. Неужели из-за того, что совершила горстка людей, вы возненавидите весь народ? Другие семьи тоже должны страдать, раз пострадали вы?
Мне пришлось напомнить себе, что, когда человечество постареет и отомрёт, на этих холмах поселится великая раса насекомых. После них – Сариав с их псевдоподами и странными скульптурами. А значит, можно проявить терпение.
– Я сама помогу страдающим, чем смогу.
Куда тише:
– Если вы нам поможете, даже только в одном деле, я смогу разузнать, что на самом деле случилось с вашей матерью.
Как только он это произнес, его лицо тут же исказила вина, но я всё равно не могла не отвернуться.
– Поверить не могу, что даже после смерти вы смеете держать мать в заложницах, чтобы я вас слушалась. Оставьте себе и её тело, и свои секреты, – и на р’льехском – потому что в лагерях нас наказывали за разговоры на нём – я добавила: – И если ваш труп повесят на дереве, я поцелую землю под ним, – затем в страхе, что он что-то сделает или скажет, я сбежала.
Ради скорости я сбросила туфли. Ступни влажно шлёпали по земле. Я не слышала, погнался ли за мной Спектор. Я всё ещё была слишком слаба, слаба как дитя, но всё же я была выше, и быстрее, и туман объял и скрыл меня, и придал мне сил.
Спустя пару минут я нырнула в подворотню. Выглянув, я не заметила погони. Только тогда я позволила себе хватать ртом воздух – глубокими, рваными глотками. Хотелось, чтобы он сдох. Хотелось, чтобы все они сдохли, как хотелось каждую минуту на протяжении семнадцати лет. И наверняка многих уже настигла смерть: ведь они всего лишь люди, с истончающимися костями и пересыхающими венами. Можно и подождать.
К Котосам я вернулась босоногой. Мама Рей была на кухне. Она отложила нож и обняла меня, пока меня всю трясло. Затем Анна взяла меня за руку и повлекла к столу. Остальные толпились рядом – встревоженная Неко и Кевин с большим пальцем во рту. Он так напоминал Калеба.
– Что случилось? – спросила Анна, и я рассказала всё как было, стараясь говорить спокойно и внятно. Им нужно было знать.
Мама Рей бросила нарезанный лук на сковороду и принялась за перец. На меня она не взглянула, но это было и не нужно.
– Афра-тян – Каппа-сама – как думаешь, что ему надо?
Я потёрла лицо – вдруг меня передёрнуло. Кровь Спектора, всё ещё на ногтях, прорезалась сквозь запах жареного лука.
– Не знаю. Может быть, именно того, чего и просил, но его хозяева наверняка разозлятся, когда он вернётся с пустыми руками. Ему придётся придумать, как на меня надавить. Это опасно. Простите меня.
– Я не хочу уезжать, – сказала Неко. – Мы же только приехали, – я зажмурилась из-за рези в глазах.
– Мы не уедем, – сказала Мама Рей. – Мы хотим жить здесь достойной жизнью, и меня не запугать. И тебя тоже, Афра-тян. Ничего он нам не сделает, этот человек из правительства, нет у него закона, по какому нас можно арестовать.
– На то, что делали с моей семьей, тоже не было законов, – ответила я.
– Времена меняются, – твёрдо заявила она. – Теперь люди всё видят.
– Они отняли весь твой город, – сказала Анна, почти нежно. – Но им ведь не отнять Сан-Франциско, правда, мама?
– Конечно нет. Всё пойдёт своим чередом, и завтра вы отправитесь на работу и в школу, и будем мы осторожней. Вот и всё.
С Мамой Рей невозможно спорить, да мне и не хотелось. Я полюбила свою новую жизнь, и если я снова её потеряю… что ж, солнце скоро уже догорит – и тогда не будет разницы, пару счастливых месяцев я прожила или пару лет. Уснула я с молитвой на губах.
* * *
Логично, что в подсобке книжной лавки хранится ещё больше книг, чем на витринах. Так оказалось и у нас. Книги в коробках, книги в шкафах, книги в стопках на полу и на берёзовом столе с неровными ножками. А один шкаф солидней остальных, на тёмном дереве вырезаны листья и лозы. Такой покупают задорого, чтобы хранить то, что заслуживает подлинного уважения.
А на полках – моё детство вперемешку с хламом. Я поднимаю руку, не решаясь коснуться, погладить корешки – всего в паре сантиметров от пальцев. Я боюсь, что они тоже обратятся в чепуху. Некоторые уже превратились. Некоторые книги, я знаю, написаны шарлатанами, а некоторые – такие же очевидные подделки, как «Серый народ» того блондина. Но есть и подлинные.
– Где ты их достал?
– Аукционы. Развалы. Какие приносили на продажу, какие нашел в лавках, где не понимали, что имели. Сказать по правде, я и сам не до конца понимаю. Ты разбираешься?
Я вытягиваю трясущимися руками «Некрономикон» – тот из трёх, что более всего похож на настоящий. К счастью, форзац чист – ни посвящения, ни фамилии владельцев. Не узнать, вдруг книга принадлежала тем, кого я когда-то знала. Взглянув на первую страницу, я узнаю чересчур поэтический арабский и убираю книгу, пока не расплакалась. Беру другую, на сей раз на настоящем енохианском.
– Зачем покупать, если не можешь прочесть?
– Затем, что вдруг когда-нибудь смогу. Вдруг я что-нибудь из них выучу, зная хотя бы пару слов. Потому что я хочу научиться волшебству – а что я ещё для этого могу, – говорит он с гневным взглядом, боясь издевки.
Я поднимаю книгу, которую прижимала к груди.
– Между прочим, можно учиться по этой. Это детский текст с самыми основами. Я сама по нему обучалась, пока не… потеряла доступ к библиотеке, – говорю я, боясь вопросов. Но он не стал вторгаться в мою личную жизнь, как я не стала насмехаться над ним. – Мне слишком мало известно, чтобы учить тебя по-настоящему. Но если поделишься книгами, я помогу, чем смогу, – он кивнул, и я отворачиваюсь, чтобы слёзы не капнули на страницу – и чтобы он их не заметил.
* * *
На следующий день я вернулась на работу в туфлях, которые одолжили соседи. Тут Котосы не могли мне помочь – ноги у меня слишком большого размера. Полдороги меня провожала Анна, потом свернула в прачечную, – в её компании мне было много спокойней, чем я хотела признать.
До завтрака я ходила кругами у раковины, раздумывая, что делать со слабым следом крови Спектора. В конце концов решила её смыть. Агент правительства, знакомый с канонами эонистов, наверняка знает, и как отразить знаки.
Несмотря на мои опасения, день прошел тихо, приходили только покупатели вестернов, любовных романов и учебников. Следующий день был таким же, и следующий после него – так прошли три недели, и лишь напряжение между лопатками подсказывало, что что-то неладно.
Через три недели он вернулся. Его осанка изменилась: чуть более сутулый, чуть менее решительный. Я застыла, но не побежала. Чарли поднял взгляд от стопки поступивших книг и испытующе взглянул на меня.
– Это он, – пробормотала я.
– А, – его взгляд стал острее. – Тебе здесь не рады. Убирайся и больше не смей докучать моим работникам.
Спектор выпрямился, словно припомнив былую самоуверенность.
– Я кое-что принёс для мисс Марш. После я уйду.
– Что бы у вас ни было, мне этого не нужно. Вы слышали мистера Дэя – будьте добры покинуть магазин.
Он опустил взгляд.
– Я нашёл досье вашей матери. И отдаю его безвозмездно. Вы были правы, моё предложение… это было бесчестно. Как только вы его прочтёте, – если захотите, – я уйду.
Я протянула руку.
– Хорошо. Я возьму. А вы уходите.
Он прижал толстую папку к груди.
– Простите, мисс Марш. Мне нельзя его оставлять. Его и из здания выносить нельзя. Если я что-то потеряю, у меня будут серьёзные неприятности.
Мне было плевать на его неприятности и не хотелось заглядывать в папку. Но это была единственная могила моей матери.
– Мистер Дэй, – сказала я тихо. – Я бы хотела уединиться на пару минут, если вы не против.
Чарли взял коробку и отошёл, но остановился.
– Если этот парень что выкинет, ты только крикни, – он смерил Спектора очередным гневным взглядом и скрылся за стеллажами – как я подозревала, недалеко.
Спектор протянул папку. Я открыла её, осторожно, между кассой и невысокой стопкой детективов Агаты Кристи. На миг я закрыла глаза, закрепив образ живой матери в памяти. Я помнила, как она пела псалмы на кухне, спорила с лавочниками, преклоняла колени на мокром песке на солнцестояние. Помнила, как в нашей гостиной рыдала соседка, когда лодка её мужа не вернулась из шторма, и говорила моей матери: «Твоя вера – немыслимых глубин. Другим не так повезло».
– Простите, – сказал Спектор. – Это страшно.
Они завезли её ещё глубже в пустыню, на экспериментальную станцию. Посадили в клетку. Заставляли поднимать гири, чтобы испытать силу. Подолгу морили голодом, чтобы испытать выносливость. Резали, перепутав всю мифологию, железом и серебром, засекая время излечения. Однажды омыли морской водой, потом обычной, потом скребли сухой солью. После этого вовсе ограничили контакты с водой, разве что давали пить. Потом и запретили и это. Все шестьдесят семь дней внимательно замеряли пульс, оттенок кожи и расстояние между глазами. Возможно, из какого-то слабого интереса к нашей культуре старательно записывали каждое её слово.
Это были не молитвы.
Были снимки – и экспериментов, и вскрытия. Я не заплакала. Казалось расточительным попусту тратить солёную воду.
– Спасибо, – сказала я тихо, закрывая папку. В горле встал ком. Он склонил голову.
– Моя мама приехала в Штаты в юности, – он говорил, обдумывая каждое слово, не торопясь и не запинаясь из-за внезапного прилива искренности. Если бы не это, я бы чувствовала себя в праве перебить. – Её сестра осталась в Польше. Она была чуть старше, настоящая красавица. У меня есть досье и на неё. Она выжила. Теперь она в больнице в Израиле, и иногда даже может есть самостоятельно, – он замолчал, сделал глубокий вдох, покачал головой. – Не могу представить, чтобы я согласился работать на новое немецкое правительство – и неважно, насколько оно отличается от старого. Простите, что я вас просил.
Он взял папку и отвернулся.
– Подождите, – надо было промолчать. Наверняка он всё подстроил. Но эта манипуляция оказалась более продуманной, чем примитивные угрозы, которых я ожидала, и мне вдруг стало боязно дальше игнорировать своих врагов. – Я не буду на вас работать. Но расскажите об этих своих новых страшных эонистах.
Неважно, чем я бы в итоге помогла Спектору – если вообще могла помочь: я вдруг поняла, что мне очень хочется с ними увидеться. Несмотря на любовь и заботу Котосов и искреннее желание Чарли учиться, мне всё же не хватало Иннсмута. И эти смертные оказались для меня самым похожим на родной дом.
* * *
– Зачем ты хочешь учиться? – хотя я и сомневаюсь, что Чарли сам знает, это ритуальный вопрос. На него нет ритуального ответа.
– Я не… – он снова бросает сердитый взгляд – привычка, которую мой отец велел бы забыть, если он действительно хочет обучаться древнему знанию. – Словами так просто не перескажешь, ясно? Просто… по-моему, такими и должны быть книги. Они должны менять мир. Хоть немного.
Я киваю.
– Хороший ответ. Некоторые думают, что правильный ответ – «власть», но это не так. Власть, которую дарит волшебство, не идёт в сравнение с властью, которую дают оружие, значок или бомба, – я делаю паузу. – Пытаюсь вспомнить, о чём нужно рассказать сразу, в начале. Что волшебство – оно для понимания. Знания. И оно не поможет, пока ты не поймешь, что многого от него ждать не стоит.
Шарлида – или эонизм – похожа на религию. Но это не Библия: то, о чём я буду рассказывать, происходило на самом деле – истории древнее человечества, иногда свидетельства тех, кто их пережил. В богов можно верить, а можно не верить, но история – реальна.
Все прочие человеческие религии помещают в центр мироздания человека. Но человек – ничто, лишь крупинка жизни, что обитала и будет обитать на Земле. И Земля – ничто, крошечный мирок, который угаснет вместе с Солнцем. Солнце – один из триллионов миров, где жизнь расцветает, хочет существовать и умирает. А между солнцами – бескрайняя тьма, которая их затмевает и в которой жизнь может странствовать, только избавившись от всех желаний, потеряв себя. Рано или поздно умрёт и тьма. В таком мироустройстве знание – огонёк свечи в сумерках.
– Как весело у тебя выходит.
– Но это правда. Наша религия – та часть её, что является именно религией, – учит, что боги создали жизнь в попытке обрести смысл. В конечном итоге и это безнадежно, и богам тоже придёт конец, но попытка чего-то стоит. Воля реальна, даже когда всё кончено и позабыто.
Чарли слушает с сомнением. Я и сама в это не верила, когда начинала обучение. И была слишком юна, чтобы это знание меня пугало или утешало.
* * *
Я думала над тем, что сказал мистер Спектор и как поступить с этой информацией. В конце концов я оказалась, неофициально и никого не уведомляя, в дорогом районе города, после заката, у дверей здания куда приличней, чем жилище Котосов. Это был далеко не особняк, но обжитый и ухоженный дом: два этажа из кирпича, крытые испанской черепицей, фасад с живой изгородью из можжевельника. Дверь окрашена в солнечно-жёлтый, но молоток выкован в виде фантастического существа, чем-то напомнившего о родине. Я взялась за холодный металл и резко постучала. Затем, дрожа, замерла.
Тот, кто открыл дверь, был старше Чарли. Гладко прилизанные седые волосы, что курчавились у висков и ушей. На щеках неглубокие морщины. При виде меня он нахмурился. Я надеялась, что не ошиблась адресом.
– Меня зовут Афра Марш, – сказала я. – Вам это ни о чём не говорит? Я так поняла, что кто-то в этом доме ещё практикуют древние обычаи.
Он открыл и закрыл рот – значит, узнал фамилию. Чуть отшатнулся, но затем придвинулся.
– Кто вам такое сказал?
– Моя семья умеет узнавать скрытое. Можно войти?
Он отошёл, чтобы впустить меня, но слишком нерешительно, чтобы показаться галантным. В прищуренных глазах расширились зрачки, он облизал губы.
– Что вам угодно, госпожа Марш?
Я вошла, пока что проигнорировав вопрос. Фойе и видная часть гостиной казались обыденными, но до боли знакомыми. Мебель из тёмного дерева – главным образом шкафы – на фоне светло-зелёных обоев. Но вид слегка обшарпанный – не такой опрятный и ладный, каким бы могла гордиться моя мать. Год назад это сошло бы за переднюю в лучших домах Иннсмута. Теперь же… Я задумалась, как выглядел дом моей семьи, когда не стало матери с высокими стандартами. С усилием подавила эти мысли.
– …В подвале, – говорил он. – Хотите взглянуть?
Я вернулась в памяти на пару секунд назад и обнаружила, что он предлагал мне показать, где же практикуются «древние обычаи».
– Хочу. Но сперва было бы уместно представиться.
– Приношу свои извинения, госпожа Марш. Я Озвин Уайлдер. Жрец, хотя, вероятно, по вашим меркам не совсем традиционный.
– Я пришла не осуждать, – и улыбнулась ему так, чтобы он понял, что судить я буду ревностно. Как странно. В Иннсмуте чужестранцы, не исповедовавшие шарлиду, смотрели на нас со страхом и отвращением – и даже шарлиды не из нашего рода, в основном нервозно-мизантропические академики из Мискатоника, относились к нам с подозрением. Уважение, как правило, уступало спорам из-за верных толкований древних текстов. Но немногие смертные, жившие в нашем городе и в нашей вере, кротко подчинялись нашему старшинству, и всегда без малейших подобных признаков обиды.
Он отвёл меня вниз по деревянным ступеням. Я ожидала оказаться в полуподвале или подземелье – не удивилась бы, если он сам о таком мечтал, – но ему приходилось мириться с тем, что имелось. Всё, что смог Уайлдер, – лишь облицевать пол за голой плитой у основания лестницы тёмной плиткой, изукрашенной знаками и узорами. Пару я признала, а прочие, как я подозревала, были плодом его собственного воображения. В дальнем конце залы над накрытым столом мерцали свечи. Я подошла, медленно обойдя простой каменный алтарь в середине помещения.
На столе высилась священная статуя Ктулху. Я едва ли обратила внимание на работу резчика или материал, хотя священнику из моего детства нашлось бы, что о них сказать. Но детство давно ушло, и это зрелище разбило мои взрослые колебания с забытой силой. Не думая о хозяине дома, я преклонила колени. Мерцающий свет отражался влажными отблесками на щупальцах и конечностях, и я почти видела, как они тянутся ко мне, чтобы обнять и укрыть от опасностей. Тогда как статуя в Иннсмуте изображала божество с закрытыми глазами, символизируя тайны глубин, у этой глаза были раскрыты – чёрные и бездонные. Я ответила на взгляд, не склонив головы.
Ждал ли ты нас? Жалеешь ли о том, что случилось? Пережив эоны, заметил ли ты исчезновение Иннсмута? Или только подивился, почему меньше существ приходят в воду?
Ты слышишь? Хоть когда-нибудь слышал?
Слёзы – я заметила их слишком поздно. Не хотелось бы, чтобы их увидел и священник. Но одну каплю солёной воды я всё же смахнула на статую и прошептала нужную молитву. Странно, но это успокаивало. Моя мать по старой традиции держала в буфете банку морской воды, чтобы омывать заплаканные лица, и раз в месяц приносила её в храм. Но я всё равно сама преподносила богу свои слёзы, когда не хотела доставлять ей хлопот или скрывала ссору с братом.
И сейчас мы рядом с океаном. Может быть, Котосы одолжат банку.
Мои размышления прервал скрип двери в подвал и музыкальный альт.
– Оз? Я стучала, но никто не отвечал – ты внизу?
– Милдред, да. Спускайся; у нас гостья.
На лестнице показались длинные юбки, гранатово-красные, а за ними – женщина, державшаяся со знакомым достоинством моей матери. От неё веяло чувством собственного достоинства – черта, которую некоторые счастливые смертные приобретают с возрастом; морщины и посеребрённые волосы казались лишь намеренными мазками художника. Я поднялась и вежливо кивнула. Она вперилась в меня взглядом, поджав губы.
– Мил… Мисс Марш, – сказал Уайлдер. – Позвольте представить вам Милдред Бергман. Милдред – это мисс Афра Марш, – он сделал драматическую паузу, та нахмурилась ещё грознее.
– И что она делает в святилище?
– Мисс Марш, – повторил он.
– Назваться можно любым именем. Даже таким прославленным, – я поморщилась, потом вздернула подбородок. Нет причин оскорбляться: её сомнение – преграда не страшнее, чем нервозная гордыня Уайлдера.
Взяв свечу с алтаря, – и прошептав благодарность Ктулху, – я шагнула к ней. Она не двинулась с места.
– Присмотритесь ко мне.
Она демонстративно смерила меня взглядом с ног до головы. Глаза оставались прищуренными, и если бы я умела читать мысли и выполнила надлежащие обряды, то знаю, что бы услышала. «Быть страхолюдиной еще ничего не значит».
Уайлдер двинулся к нам.
– Это глупо. Нет причин сомневаться. И она сама нас отыскала. Ей явно известны древние искусства – мы же не печатаем адрес в газетах! Позволь ей показать себя.
Бергман принюхалась и пожала плечами. Двигаясь стремительней, чем я ожидала, она отняла свечу из моих рук и поставила на стол.
– Разумеется, только тебе как жрецу надлежит решать, кого допускать в круг избранных. Остальные скоро прибудут; посмотрим, что они скажут о нашей гостье.
Я моргнула.
– Тогда я подожду, – я отвернулась и снова встала на колени перед божеством. Нельзя было выдать перед ней гнев из-за её пренебрежения или страх из-за того, чего мне может стоить этот жест неповиновения.
* * *
Первейшее и простейшее упражнение в волшебстве – заглянуть в себя. По-настоящему заглянуть, по-настоящему увидеть – и мне страшно. Не могу избавиться от мысли, что годы в лагере забрали у меня что-то важное. После этого простого действия я узнаю наверняка.
Я сижу напротив Чарли на деревянном полу подсобки. Он принёс половичок и подушку с кресла для своего больного колена, а я была рада прохладной твёрдости. Вокруг нас красным мелом начерчена печать первого уровня, а между нами стоят две миски с солёной водой и двумя ножами. Я объяснила по книге порядок, предупредила, чего ожидать, насколько сумела. Я вспоминаю, как мой отец спокойно и терпеливо объяснял обряд мне. Я же скорее похожа на мать – не терплю ошибок новичков, даже своих собственных.
Я готовлю его: велю представить море, текущее по венам, тело как потоки крови и дыхания. Я упрощаю образы, усвоенные в детстве. Он не может вообразить метаморфозу, ведь у него нет предков, которые могли бы рассказать, каково оказаться под давящими глубинами. Но он закрывает глаза и дышит, и я представляю, что это ветер в жаркий день. В конце концов, он принадлежит воздуху, не воде. Я должна пересказать ему литанию, чтобы он понял её смысл и, быть может, придумал для себя другую подготовку.
Тела и разумы расслаблены, мы начинаем песнопение. Его произношение никуда не годится, но это детское упражнение, созданное специально для мастера и неумелого ученика. Слова крепнут, несут ритмы ветра, волны и медленного движения земли. Распевая, я поднимаю нож и вижу, как Чарли всё повторяет за мной. Я омываю клинок в соленой воде и укалываю палец. Боль знакомая, желанная. Роняю каплю крови в миску, она кружится, расползается и растворяется в чистоте. Успеваю заметить, что Чарли делает так же, как вдруг комната тоже растворяется и мой взгляд в себя становится чистым.
Я внутри, вижу кровью, а не глазами. Я целиком осознаю своё тело и силу. Моя кровь – поток. Это река, впадающая в океан; она ревёт во мне, какофония стремнин и белой пены. Я плыву с ней, осматривая тропы, по каким не ходила вот уже восемнадцать лет. На удивление, они почти не изменились. Я могла бы и догадаться – ведь пока смертные вокруг старели, мои суставы по-прежнему сгибались легко: река ещё хранит свою целительную силу, уносит хвори и боли с берегов, за которые они тщетно цепляются. И перекраивает всё, чего касается, терпеливо и неустанно. И хранит признаки здорового дитя, которое однажды – когда-нибудь – уйдёт в воду. Я вспоминаю, как мать говорит мне с улыбкой, что моя кровь уже знает облик, который я однажды буду носить.
Я греюсь в самоощущении, впервые за десятилетия наслаждаюсь своим телом, когда вдруг всё меняется. На миг я чувствую свою кожу и прикосновение к руке.
– Мисс Марш, вы в порядке?
И теперь я вспоминаю, что с практикой учишься оставаться внутри всё дольше и что совсем позабыла запретить Чарли касаться меня. И вдруг меня выдёргивает из моей реки и ввергает в чужую.
Никогда не делала этого с кем-то вне моего народа. Река Чарли невероятна слаба – скорее, ручеёк. У неё не хватает сил, она узкая и мелкая из-за ила. Моё тело стремится к океану, а его тело уже начало иссыхать. И его кровь знает, что однажды ему придёт конец.
И он тоже наверняка видит меня так же близко.
Я с силой обрываю связь, произнеся слова, которые заканчивают обряд так скоро, как я только смею. Прихожу в чувства, голова кружится.
Чарли потрясен куда сильнее.
– Это… это такое настоящее. Это волшебство.
А я чувствую только облегчение. Конечно, необыкновенность первого заклинания затмит любые его подозрения о разнице крови. По крайней мере, пока.
* * *
В течение следующего часа в зал вливается паства Уайлдера. Мужчины и женщины, одетые богато и бедно, но каждый нёс себя с достоинством, говорившем о старинных родах, привыкших к власти среди смертных. Они бубнили под нос, когда Уайлдер представлял меня; некоторые позже шептались с Бергман.
Казалось, только спустя бесконечный эон они собрались в круг. Уайлдер встал перед столом лицом к низкому алтарю и поднял руки. Круг притих, в воздухе носились только дыхание и шорох юбок и балахонов.
– Йа, Йа, Ктулу втагн… – его акцент был за гранью скверного, но молитва оказалась знакома. После четвёртой ошибки мягкого произношения я поняла, что он обучался языку исключительно по книгам. Тогда как я лишилась мудрости, написанной пером, ему недоставало голоса учителя. Зная, что сейчас вмешательство неуместно, я молчала. Даже изуродованные, слова казались нежными.
В надлежащие моменты подавали голос прихожане, хотя многие и запинались, а некоторые бормотали вздор, нежели нужные слова. Учились они у Уайлдера, и кто-то ещё оставался новичком. Многие подались вперёд – зрачки расширены, а рты раззявлены в удовольствии. Бергман едва сдерживала охвативший её пыл, но глаза всё-таки были сощурены – она ревностно следила за тем, чтобы не выдать своих чувств. Её взгляд встретился с моим, и губы перекосились.
Я вспомнила мать, её самодостаточную веру, взаимодополняющую страстный пыл отца. У Бергман уже были зачатки подобной веры, но она ещё не научилась владеть собой без осознанных усилий.
Спустя несколько минут призывов и ответов Уайлдер встал на колени и взял золотое ожерелье, до сих пор скрытое под складками скатерти. Это не была работа моего народа – лишь простая нить с нанизанными квадратами с вырезанными на них абстрактными щупальцевидными узорами. Узоры напоминали орнаменты барельефа и плетеные ожерелья-короны глубоководных так же, как ритуал – церковные службы моего детства. Уайлдер поднял его всем на обозрение, и Бергман встала рядом. Он резко перешёл на английский: не перевод, иначе бы я узнала – скорее всего, текст его собственного сочинения.
– Женщина, примешь ли ты любовь Шуб-Нигарот? Просияешь чудом жизни вечной в очах смертных?
Бергман вздернула подбородок.
– Да. Я её названная дочь и возлюбленная Богов: да примем же ужасную и великую любовь их и ответим им тем же.
Уайлдер опустил ожерелье на её шею. Она повернулась к прихожанам, а он продолжил, скрытый её силуэтом:
– Склонитесь пред славой Всематери!
– Йа Ктулху! Йа Шуб-Нигарот!
– Склонитесь пред танцем во тьме! Пред жизнью, не знающей смерти!
– Йа! Йа!
– Склонитесь пред тайной, сокрытой от зрака солнца! Узрите – вдохните – возьмите её с собой!
И паства замолкла, и я подавила радостный вскрик. Пусть слова отчасти были бессмыслицей, но всё-таки близки духу служб моего детства более всего того, что Уайлдер вычитал из книг. Бергман взяла со стола нож и кубок, полный темной жидкости. Когда она обернулась водрузить его на алтарь, мне в ноздри ударил запах обычного красного вина. Она уколола палец и выжала каплю крови в чашу.
Кубок передавали из рук в руки, и прихожане благоговейно делали по глотку. Они закрывали глаза и вздыхали из-за своих видений, или глядели в вино в задумчивости, прежде чем передать следующему. Но когда пришёл мой черед, я почувствовала только вино. Будь у меня время и место для собственных заклинаний, я бы могла узнать любые тайны, сокрытые в крови Бергман, – но здесь волшебства не было, только его атрибуты.
Они были неуклюжи, невежественны, жаждущие и отчаянные. Уайлдер искал силу, а Бергман боялась её утратить, а прочие, скорее всего, напоминали те же приятные и несносные типы, что я помнила из паствы своего детства. Но какими бы они ни были, Спектор ошибался. Государству следовало опасаться их не больше, чем Иннсмута восемнадцать лет назад.
* * *
Когда Чарли закрывает дверь в подсобку, я замечаю, как дрожат его руки. Он носит маску пожившего на свете циника, но на деле ему не больше сорока – практически моего возраста, будь мы оба обычными смертными. И к нему жизнь была добра. То, что я предлагаю Чарли сейчас, станет его величайшим разочарованием, но его пыл почти осязаем.
Когда он наклоняется убраться на полу, я поднимаю руку.
– Позже мы ещё попробуем обряд Внутреннего моря, – его непривычная улыбка расцветает, – но сперва я хочу кое-что тебе прочесть. Так ты лучше поймёшь, что видишь, когда смотришь в собственную кровь.
То, что я ищу, имеется по меньшей мере в трёх томах в шкафу, но я достаю детскую книгу. Осторожно пролистываю, пока не нахожу хорошо знакомую иллюстрацию: Земля и Луна, и тринадцать фигур вокруг них. Я обвожу круг своим чересчур длинным пальцем.
– Я уже говорила, что в богов ты можешь верить, а можешь не верить, но история неопровержима. Это история. У нас есть доказательства и свидетельства даже о тех её периодах, что ещё не произошли. Великая раса Йит путешествует в пространстве и времени и они до жестокости откровенны с теми, кто их может узнать. Литания Земли родилась после тысяч встреч: бесед, в которых нам открылись все цивилизации, что ушли до человеческой, и все цивилизации, что придут после нас.
Я жду, наблюдая за его реакцией. Он не верит, но готов слушать. Медленно садится в кресло и машинально потирает колено.
Я опускаю поэтичность оригинального енохианского, но она помогает мне припомнить перевод на английский.
– Это литания обитателей Земли. До самых первых была тьма и был огонь. Земля остыла и возникла жизнь, борясь с беспамятной тьмой.
Первые были пятикрылые старейшины Земли, лики Йит. Во время Старших с дальних звёзд прибыли архивы. Йит вырастили шогготов, чтобы те служили в архивах, и трудом того эона было восстановить и привести в порядок архивы на Земле.
Вторые были шогготы, восставшие против создателей. Йит бежали, и эон Земля досталась шогготам.
Слова лились легко, знакомые строфы отражались в событиях из моей краткой жизни. Во времена тягот или радости, когда хворало дитя или когда тонул рыбак, ещё не доросший для метаморфозы, на Новый год и на каждое солнцестояние литания дарила нам утешение и смирение. «Народ воздуха, – говорил наш жрец, – выражается проще: «И это пройдёт».
– Шестые есть люди, дичайшие из рас, что разделили мир на три части. Народ камня, К’н‑йан, строили первыми и прекраснее прочих, но познали жестокость и страх и стали Безумными под землей. Народ воздуха расселился дальше и плодился больше, и станет основой тем, кто придёт на смену им. Народ воды рождается в тайне на суше, но возведённое ими под волнами простоит до того мига, когда последнее их убежище спалит умирающее солнце.
Седьмые будут К’чк’к, ликами Йит рождённые из мельчайших гнусов домов человеческих, – здесь Чарли наконец делает резкий вдох. – Труд сего эона – читать воспоминания Земли, анализировать и аннотировать, и вывести поэзию из знаний Йит.
Я перечисляю дальше расы творцов и завоевателей, любовников и варваров. Каждая заслуживает пару фраз за все тысячи или миллионы лет существования. Каждый абзац затмевает несчетные безвестные жизни вроде моей, Чарли… вроде жизни моей матери.
– Тринадцатый будет Вечерний народ. Йит пройдут среди них, взращивая расу из детства, одаривая величайшим знанием всех народов. Трудом сего эона будет копирование архивов, камень к камню, и возведение кораблей, что понесут архивы и Вечерних к дальним звёздам. После их ухода Земля сгорит, а Солнце обратится в пепел.
После ухода последней расы будут огонь и беспамятная тьма. Где станут жить истории о Земле – сие нам неведомо.
Минуту мы сидим в молчании.
– Ты когда-нибудь встречала этих Йит? – наконец спрашивает Чарли. Он говорит торопливо, заранее настроенный против ответа. Во всё остальное ему хочется верить.
– Никогда, – отвечаю я. – Но моя мать встречала, в детстве. Она играла на болотах, а он ловил комаров. Обычно их видят в библиотеках или за беседами с учёными, но она не первая, кто повстречал одного из них за сбором каких-либо образцов. Она спросила, станут ли комары когда-нибудь людьми, и он рассказал ей о каком-то полководце К’чк’к, которого она приняла за аналог Александра Македонского. Она говорила, что ей потом задавали столько вопросов, что после возвращения домой она перепутала все подробности, – я пожимаю плечами. – Без всего этого волшебство учить нет толка, мистер Дэй. Или примите, или бросайте.
* * *
Дверь в подвал скрипнула и о косяк зашептали юбки.
– Оз, – раздался голос Бергман. – Я хотела поговорить о… А. Это вы, – она вернулась к своей царственной снисходительности. – Оз, что она здесь делает?
Я поднялась, отвечая на её тяжёлый взгляд. Если я хотела здесь хоть что-то узнать – или даже чему-то научить, – этому следовало положить конец. И всё же нельзя было выходить из роли.
– Чем я вас так задела? Я приходила уже много раз. Другие привыкли – никто не сомневается в моём происхождении.
Она посмотрела на меня свысока.
– Я полагаю, что вы самозванка. Всё очень просто. Хотя это и далеко не единственная угроза, которой стоит опасаться. Если вы действительно крови Глубоководных, почему вы не со своим великим родом? Почему исполняете свои обряды тут, среди обычных людей, которые желают похитить ваши секреты?
«А почему вы не со своим родом?» – проглотила я горький ответ.
– Моё одиночество – не ваше дело.
– А мне кажется, моё, – она обернулась к Уайлдеру, который оставался у алтаря. – Если она не шарлатанка… то либо шпион, подосланный не дать нам вызнать о могуществе их народа, либо находится в изгнании за преступления, которые нам не под силу и вообразить.
Я зашипела и, не сдержавшись, бросилась к ней, почувствовав вонь её перепуганного дыхания.
– Они. Все. Мертвы.
Бергман отшатнулась – зрачки расширены, дыхание частое. Она подобралась, поправила юбки и фыркнула.
– Похоже, ты всё-таки шарлатанка. Все знают, что Глубоководные не могут умереть.
И снова против своего желания я ринулась на неё. Бергман отпрянула, я схватила её за воротник и рванула. Она завалилась, но я легко выдержала её вес, хоть она и пыталась вырваться. Я моргнула – слишком большие глаза в слишком тесных глазницах, – и мой гнев практически смыло удивление. Впервые ко мне вернулась сила.
А я обратила её против старой смертной женщины, чьи прегрешения – лишь гордыня и подозрение. Я отпустила и отвернулась. Суставы пальцев ныли.
– Не смейте этого больше повторять. Или скажите это солдатам, застрелившим моего отца. Мы не стареем, нет, – в отличие от вас, – я не смогла сдержать колкость. – Но есть и другие способы умереть.
Наконец заговорил Оз, тогда я повернулась и увидела, как он помогает Бергман подняться.
– Иди с миром, Милдред. Она не шпион и, мне кажется, не преступница. Она не отнимет у тебя бессмертия.
Я замерла, ещё чувствуя клокочущий гнев, и внимательней пригляделась к её чертам. Она была стройной, с маленькими глазами, изящными пальцами – и явно пожилого возраста. Несмотря на все её манеры держать себя, не было ни шанса, что в ней течёт хотя бы капля крови нашей семьи.
Она заметила мой взгляд и улыбнулась.
– Да, нам известна эта тайна Глубоководных. Тебя это удивляет?
– Бескрайне. Я и не представляла, что это тайна. По крайней мере, не такая, которой нельзя делиться.
Ухмылка стала ещё шире, злее.
– Да – но вы пытались скрыть её от нас! Чтобы мы были слабы, никчёмны и смертны. Но мы открыли её – и в осеннее полнолуние я уйду в воду. Я возлюбленная Старших Богов и буду процветать с ними под волнами вечно.
– Ясно, – я обратилась к Уайлдеру. – Вы это уже делали?
Он кивнул.
– Милдред станет третьей.
– Какая чудесная перспектива. А почему бы вам самому не уйти в океан?
– О, обязательно – когда выучу преемника, который займёт моё место, – и он посмотрел на меня с такой уверенностью, что я сразу поняла, кого он назначил на эту роль.
Милдред Бергман – уверенная, что долголетие можно вдруг заработать, как состояние – ни за что бы не поверила, если бы я просто открыла ей правду. Я подняла руку, чтобы предупредить всё, что ещё скажет жрец.
– Уайлдер, выйдите. С вами я поговорю позже.
Он ушёл. Если он убедил себя, что я стану новой жрицей, то, полагаю, и относился ко мне подобающе.
Я села, скрестив ноги, стараясь разрядить возникшее между нами потрескивающее напряжение. Спустя мгновение она тоже села, осторожно и с заметным трудом.
– Мне жаль, – сказала я, – но это работает не так. Мы уходим в воду и живём там дольше потому, что в нас течёт кровь Глубоководных. Одной любви богов мало. Я бы хотела предложить тебе больше. Есть заклинания, которые могут исцелять, ослабить немощь старости или даже продлить жизнь на несколько десятилетий. Я с радостью обучу тебя им, – и я действительно была на это готова. Хотя Бергман и была ко мне несправедлива, я бы могла пригласить её в подсобку Чарли учиться вместе с нами и показать ритуалы, которые подарят ей и время, и смирение. Что угодно, кроме одного заклинания, которое я сама никогда не хотела знать.
– Ты лжёшь, – её голос был спокоен и твёрд.
– Нет. Ты просто-напросто утопишься… – я проглотила комок в горле. – Я хочу спасти тебе жизнь. Стены этого зала не видели и капли настоящего волшебства, ты даже не представляешь, на что оно похоже, какое оно другое.
Она начала было говорить, и я подняла руку.
– Нет. Знаю, что ты меня не послушаешь. Позволь мне показать.
– Покажи, – не требование – только эхо, полное сомнений.
– Волшебство, – я посмотрела на неё – вся выпученные глаза и широкие кости, – желая, чтобы она если не поверила, то хотя бы увидела меня как есть.
– Что требуется для этой… демонстрации? – наконец спросила она, и я выдохнула.
– Немногое. Мел, пара мисок и капля крови.
Благодаря моей сумочке и алтарю мы сумели раздобыть всё необходимое – к счастью, ведь мне не хотелось подниматься и просить у Уайлдера. Попрактиковавшись с Чарли, я напомнила себе самые основные печати – по крайней мере достаточно для одного простого заклинания. Я перешла от аккуратно выложенной плитки на обнажённый камень у подножия лестницы. Незачем портить сцену Уайлдеру.
Бергман не знала литании и не обладала смирением перед космосом, лежащим в основе практики шарлида, и всё же во многом работать с ней было проще, чем с Чарли. Я могла велеть ей представить свою кровь как реку и не бояться раскрыть своё происхождение.
Во время первоначальной медитации выражение Бергман стало более спокойным, более устремлённым в себя. У неё есть потенциал, подумала я. Определённо больше, чем у Уайлдера, которого больше привлекали внешняя сторона и идея власти. Плечи Бергман обмякли, а дыхание выровнялось, но глаза она не закрывала, выжидая.
Я порезала палец и дала крови пролиться в миску, цепляясь за своё обычное состояние, пока не протерла лезвие и не передала Бергман. Затем я дала потоку увлечь себя…
Лишь краткое погружение, и с силой рывок снова наверх, прочь из прохладного океана на сухой воздух. Я с болью вдохнула и положила ладонь на руку Бергман.
Тонкий ручеёк тёк по широкому руслу, вялый и истощённый. По широким песчаным просторам струились притоки. И всё же там, где они несли свои воды, они были сладки и прохладны. Их очертания – стволы и ветви – изгибались в изысканном и тонком узоре. В нём я увидела не только неизбежное угасание, которого она стремилась избежать, но и более сильный облик, что когда-то ей принадлежал, – и истекающую силу в её теперешнем облике.
– Ты одна из них.
Я вернулась, хватая ртом воздух, инстинкты требовали больше воды. Хотелось взбежать наверх и распахнуть окна навстречу вечернему туману. Взамен я придвинулась к ней.
– Тогда ты должна понять…
Она хмыкнула, едва не рассмеявшись.
– Понимаю я то, что хоть некоторым книжкам Уайлдера можно верить. Но ни в одной не было сказано, что Глубоководные – раса честнее нашей. Только что вам больше известно древних знаний, чем людям. Так что нет, я не верю, что твоё бессмертие – лишь случайность по праву рождения. Оно может принадлежать и нам – если мы не дадим себя запугать.
Мы спорили долго и жарко, и всё же я не смогла её переубедить. Той же ночью я продолжила спор сама с собой, без сна, о том, имею ли я право что-то предпринять.
* * *
Конечно, в конце концов Чарли задаёт вопрос.
Сперва я обучала его первым, простейшим заклинаниям исцеления. Даже смертный, если знаком с собственной кровью, может исцелять раны, ускорять протекание тривиальных болезней и замедлять страшные.
– Сколько я проживу, если буду всё это практиковать? – смотрит он на меня глубокомысленно.
– Дольше. Может, на десятилетие или три. Но рано или поздно наша природа нас настигнет, – внутри я корчусь, представляя его обиду и ненависть, знай он правду. Но начинаю понимать, что если я решу продолжать уроки, то узнать ему придётся.
– Но не Йит?
– Не Йит, – я колеблюсь. Даже будь я готова раскрыть свою природу, это был бы неприятный разговор, полный искушений и застарелого стыда. – То, что умеют Йит… есть подобные заклинания, или нечто похожее. Ещё никто не узнал, как передвигаться во времени, однако взять себе более молодое тело… В своих книгах ты этого не найдёшь, но отыскать это не так трудно. Сама я не искала и не стану. Судя по тому, что мне известно, это несложно – только неправильно.
Чарли проглатывает комок и отворачивается. Я даю ему подумать.
– Мы прощаем Йит за то, чему они служат, хотя они и бросают на погибель целые расы у гаснущих звёзд. Потому что их присутствие означает, что Землю запомнят, и память и истории о нас будут жить, пока они находят молодые звёзды и молодые тела, чтобы нести их. Они эгоистичны, как старый учёный, который желает ещё восемьдесят лет жизни, чтобы учиться, любить, дышать. Но всё же мы почитаем Йит, хотя они и жертвуют миллиардами, и выслеживаем и уничтожаем тех, кто крадёт чужие жизни ради того, чтобы сохранить одну только свою.
Он прищуривается.
– Это очень… прагматично.
Я киваю, но отворачиваюсь.
– Да. Мы считаем, что они делают больше любой другой расы, чтобы сдержать тьму и хаос, хоть цена за это и высока. И, конечно же, мы знаем, что не мы её заплатим.
– Интересно, а был… у этих, как их, на Ленг… свой Нюрнберг.
Я начинаю объяснять, что это не одно и то же – Йит никого не ненавидят, никого не мучают. Но не могу найти в себе сил заявить, будто разница в конечном итоге велика. Гибель и есть гибель, как бы она к тебе не пришла.
* * *
На следующий день после моей четвёртой встречи со Спектором я не пошла на работу. Я гуляла под дождём и на холоде, на открытом воздухе, пока ноги на заныли, и даже тогда продолжала шагать, потому что могла. И в итоге потому, что могла, я пошла домой.
Мама Рей шила, Кевин играл на полу с деталями с фабрики. Лежала раскрытой на седьмой странице «Кроникл», где одна-единственная колонка сообщала о вчерашнем полицейском рейде по домам зажиточных семей. В тексте не приводилось причины ареста, но я знала, что если дочитаю до конца, то найду насмешливые предположения о развратном поведении. Мама Рей грустно улыбнулась мне и продела иглу в чулки. Шов не будет как новенький, но после её стараний хотя бы протянет подольше.
– Ты ему сказала, – произнесла она. – И он послушал.
– Он обещал, что лагерей не будет, – сейчас, вслух, это прозвучало слабым оправданием для решения чужой судьбы.
Игла нырнула.
– Он кажется тебе приличным человеком?
– Не знаю. Думаю, да. Он говорит, что тех, кого они не смогут отпустить, отправят в лечебницы, – там, где чисто, думаю я, где за ними будут ухаживать и хорошо кормить. – Говорит, там Уайлдеру и место. Он сам верил в то, что вещал другим. Что обещал Бергман.
А она верила обещанному – но этой веры не хватило бы, чтобы спастись.
Словно когда-то и кому-то хватало.
Стежок. Стежок. Игла танцует туда-сюда, стягивая очередной превосходный узелок. Медные ножнички – подарок на мой и Анны заработок – обрезают нитку.
– Проведай её.
– Вряд ли ей захочется меня видеть.
Мама Рей смотрит на меня.
– Афра-тян.
Я опускаю взгляд.
– Вы правы. Я проверю, как за ней ухаживают.
Хорошо ухаживают, я знала и так. Её поместят в лучшую палату с лучшим садом, какие только можно купить, угодят всем её физическим нуждам. Добрые люди рано или поздно отговорят её от той пропасти, у которой я её нашла. И не дадут утопиться до тех пор, пока её кровь не иссякнет – как уготовано всем смертным.
Интересно, будет ли она по-прежнему молиться, когда придёт конец.
Если да – я помолюсь с ней. Пусть от этого не будет никакой пользы, но попытка чего-то стоит.
Перевод: Сергей Карпов
Дорогой читатель! Если ты обнаружил в тексте ошибку – то помоги нам её осознать и исправить, выделив её и нажав Ctrl+Enter.






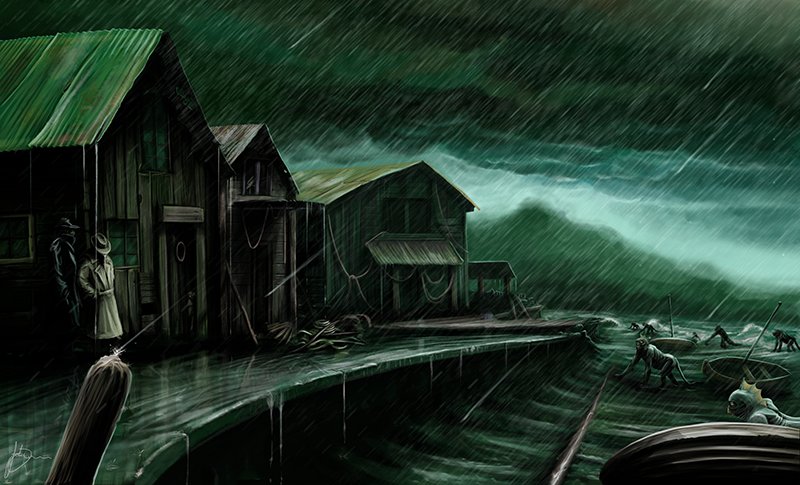






Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: