Ego ludo ergo sum
01. Практически все существующие теории о сознании или душе, или психике человека, несмотря на всю свою стройность и систематичность, выглядят неубедительно. Всегда есть ощущение, что человек, как мыслящая субстанция, сам же убегает от своих объяснений, словно линия горизонта, которая удаляется по мере нашего приближения к ней.
Подобно Пенелопе, которая за ночь распускала всё, что шила днём, чтобы так протянуть время, сознание опровергает всё, что утверждало насчёт своего существа; и если на первых порах это отрицание казалось знамением выхода к принципиально новому суждению, то потом оно стало кругом, тавтологией, тщащейся повториться в самой себе. В каждой личности есть что-то несводимое к объективным процессам, что-то таинственное и неизвестное и, наверное, символом уникальности сознающего существа будет это существо, сознающее свою смерть.
Последнее видение принадлежит экзистенциальной психологии, которая рассматривает субъекта дискретно, изучая его на крайних стадиях переживаний, кризисов, катастроф, столкновений. Этим она сильно отличается от традиционной культурно-исторической психологии, которую интересует континуальная история личности. Но все они так или иначе рассматривают человека в отношении его к миру, то есть, в его вовлеченности в социально-культурный контекст. Где-то на этом месте и возникает вопрос о первопричинах: сознание первично по отношению к бытию (контексту) или наоборот.
Этот спор был чужд компромиссов, но если мы признаем, что и контекст и сознание создаются из игры, тогда и компромиссы не нужны: спор исчерпан.
02. Игра всегда нечто большее, чем её конститутивные части. Она не сводится ни к пользе, ни к психическим механизмам, ни к физиологическим явлениям. Игра даже больше, чем веселье или смех. Аристотель, например, называл человека animal ridens [смеющееся животное], поскольку только у человека есть способность смеяться — но и она просыпается только на сороковой день от рождения.
Шуточность, остроумие, открыты для понимания лишь человеком, но животные ведь тоже играют. Будет правильнее сказать, что игра — это не антоним к серьёзности, она находится по ту сторону серьёзности и веселья, добродетели или греха, добра или зла, это область деятельности чистого духа, о чём и сообщает нам Й. Хёйзинга из своего блистательного сочинения «Человек играющий» («Homo ludens»). Всякая игра есть, прежде всего, свободное действие, поскольку игра по принуждению более не игра.
Стало быть, через игру участники получают не только удовольствие, но и обретают свободу, ведь по своей воле они вовлечены в особый условный мир. Потребность играть можно вывести из удовольствия, получаемого от процесса, но игра это всегда намного больше, поскольку при физической необходимости или моральном долженствовании она никогда не состоится.
03. «Она необходима индивидууму как биологическая функция, и она необходима в силу своего значения, своей выразительной ценности, а также духовных и социальных связей, которые она порождает, — короче говоря, как культурная функция. Она удовлетворяет идеалам индивидуального самовыражения — и общественной жизни. Она располагается в сфере более возвышенной, нежели строго биологическая сфера процесса пропитания-спаривания-самозащиты. Как бы то ни было, человеческая игра во всех своих высших проявлениях, когда она что-либо означает или торжественно знаменует, обретает своё место в сфере праздника или культа, в сфере священного» («Homo ludens»). Культура по Хёйзинге — полностью выходит из игры, и автор даёт этому весьма убедительные доказательства.
04. Но и без доказательств видно, что индивид познаёт игру в самом раннем детстве и её метафизический статус впоследствии не меняется. Почти во всех высокоразвитых игровых формах можно найти элементы повтора, рефрена, чередования как самого собой разумеющегося, вспомнить хотя бы музыку, ведь это тоже игра.
Этот рефрен, возможно, состоящий в повторении удовольствия, у взрослых работает с той же силой, что и у детей. Вспомним Фрейда, который очень метко подметил, что взрослый после прослушивания анекдота, просмотра интересной пьесы или прочтения увлекательной книги вряд ли вернётся ко всему этому снова.
Но если рассказать ребёнку смешную историю, то тот после получения первого удовольствия потребует не новую историю, а эту же самую и будет с тех пор мучить рассказчика просьбой о повторе.
05. Игра это область действия духа, заповедник сакрального. В сущности, сакральное имеет две конститутивные черты: обрядность и формальные правила. Эти же элементы мы находим и в игре: поскольку игра — функционирует в сфере условности, то смысл, скажем, в ритуале детских пряток или в прелюдии битвы на рапирах, или в бросании кости для определения порядка вступления в состязание, примерно такой же, как и облачении в мантию для церковной службы, кроплении земли святой водой, подношении в виде хлеба к могилам или стука молотка судьи для закрытия заседания.
И сакральное и игровое возможны только в рамках установленных правил и порядка, вот почему считается постыдным жульничать в игре. Вот и Поль Валерии обронил однажды, что к правилам игры скептицизм неуместен, поскольку стоит лишь отойти от них, как мир игры тотчас рушится. Помимо того, для игры сначала отводится определённое ограниченное пространство — где будет жить условность — и стол, поле, площадка — в мире игры равнозначны всеохватной Вселенной.
В мире суетного, несовершенного, ограниченного волей случайности, порядок, устанавливаемый игрой или священнодействием, непреложен, поскольку игра и есть порядок. Вот почему следует сделать вывод о происхождении всего сакрального от игрового и несводимости того и другого к сферам функционирования рационального смысла: Играю, ибо абсурдно!
06. «Культ — не более чем прививка к игре, однако изначальным фактом была именно игра как она есть» — сообщает Хёйзинга. Вот и средневековые мистерии или более древние греческие сатурналии или ритуалы орфиков, или ещё более незапамятные культы инков: праздник, экзальтация, безудержность, катарсис, были лишь синонимами священного акта, который был лишь игрой. Но это не влияло на значимость этих событий, и средневековые мистерии с непонятной морально-этической окраской и церковные праздники, проводящиеся в модусе однозначного благопристоинства, были равны, поскольку дифференциации зона «игрового-празднуемого» не поддавалась.
07. Кроме того, зона условности ещё и зона серьезности: как чудовищно выглядит смех на короновании монаршей особы, так некстати смотрится смех за столом в карты относительно самой игры: он грозиться уничтожить игру, заявить о её несерьезности и поэтому смеющегося либо удаляют, либо резким замечанием призывают к порядку. Даже в детских компаниях такой призыв звучит словно заклинание — и не в меру расшалившийся участник перестаёт делать глупости и снова оказывается в эпицентре священнодействия игры в лото.
Игра таким образом связывает, интегрирует и, как мы уже выяснили, освобождает. Её благородство заключено в общем принципе, нежели в дифференциации по направлениям: спортивные, настольные, на открытом воздухе, — всякая, она очаровывает и приковывает к себе.
08. У некоторых народов зазор между условностью («понарошку») и реальностью стирался в самом понятии игры. Нагляднее всего это заметно у туземцев: дикарь, исполняющий свой магический танец в образе кенгуру и есть кенгуру. Тут бессознательное как бы разговаривает с сознанием. Это можно сравнить даже с состоянием сна: сознание всегда знает, что видит сон, но оно верит в него как верит в реальность, вот и в игре — и мы, и дикарь, отдаём себе отчёт в том, что играем, но признаться в этом самим себе не можем.
09. Как только игра приносит с собой красоту, культура тотчас обнаруживает в игре свою ценность. Такова поэзия. Основная черта лирического воображения — склонность к невероятным преувеличениям. И это чрезвычайно сильно напоминает детскую забаву, когда ребёнок в полёте своей мысли старается перенести свой гипотетический вопрос (можно ли найти такую газету, чтобы завернуть собаку?) на более абстрактные элементы (а корову, а верблюда?).
Это похоже на традиции потлача — традиции впервые отмеченной у племени Мамалекала, а потом и у других первобытных обществ. Его суть состояла в том, что в честь какого-нибудь события, будь то свадьба или похороны, устраивалась самая пышная церемония, какую можно только устроить человеческими силами. На неё помимо друзей приглашались также все враги и недоброжелатели, чтобы поразить их щедростью. То же самое было в традиции символического обмена: принесенная в подарок одна корова должна была в ответном даре превратиться в две и так до бесконечности.
Потлач иногда доходил до абсурда: один вождь мог убить свою женщину для того, чтобы показать, как он свиреп, но другой вождь убивал три своих и таким образом выигрывал это состязание.
10. С самых аутентичных традиций королевского рыцарского поединка до современного международного права, ратное дело было подвержено игровому ничуть не меньше, чем искусства. Судебные поединки, дуэли, вопросы чести, любезности по отношению к неприятелю, поединок, церемониал – составляют правила игры и её обличие; сам же принцип игры остался неизменен.
11. Примеров происхождения искусств, философии, мудрствования, правосудия, состязания из игры, заинтересованный читатель может поискать у Хёйзинги, но наша задача состоит более не в систематизации культуроформирующих свойств игры, а в том, чтобы найти в игре экзистенциальную подоплёку, раз уж можно было заявить в заглавии: «я играю, следовательно, существую».
12. Поскольку игра — это всегда больше, чем её конститутивные части, правила, цели и состояния, возникающие в её процессе, то получается, что она всегда сама себя отрицает. Схожим образом работает ирония: я констатирую что-то, но одновременно с этим и отрицаю, я отрицаю, чтобы утверждать. Ироническое, таким образом, не имеет другого бытия, кроме своего ничто.
Но ироническое может существовать до тех пор, пока его нотки прочитываются, то есть, существовать в каком-то поле рефлексии. В случае, скажем, с самообманом такого поля нет.
13. Вот, например, возьмём женщину, которая пришла на первое свидание. Она очень хорошо знает те намерения, какие мужчина питает на её счёт, впрочем, как и то, что рано или поздно ей придётся принять окончательное решение. Но пока всё зависает в модусе неопределённости и она ограничивается планом настоящего. Так, она обезоруживает любые фразы о красоте, высказанные на её счёт партнёром, лишая их сексуального подтекста, она просто объективирует эти значения.
Когда в ней даёт о себе знать желание, она отказывается принимать его таким, каково оно есть, просто отрицая своё плотское бытие. Вот она уже доверяет свою руку партнёру, но она не замечает, что доверяет, поскольку материальности в ней больше нет, а есть только тот сентиментальный духовный контекст, в котором кружится беседа.
Тут совершается разрыв души и тела, она как бы становится вещью. Эта женщина пребывает в постоянном самообмане, обезоруживая действия партнёра лишь их видимостью, она есть и фактичность и убегающая от фактичности трансцендентность.
14. Или, вот, например, официант кафе. Он услужлив, внимателен, в меру аккуратен, он слегка подражает машине, то ли по опыту, то ли по желанию, доводя свои действия до известного автоматизма. Этот человек, безусловно, играет в бытие официанта и этим наслаждается. Он таким образом реализовывает свою профессию, подобно тому, как её реализуют в других своих играх бакалейщик, оценщик, маркетолог, парикмахер или музыкант. Правила игры их профессий конечно же непререкаемы, поэтому тот бакалейщик, который скажем, мечтает, есть плохой игрок в бытие бакалейщика.
Эти игры тоже самообман, поскольку они изолируют себя-объекта и себя-субъекта, находящегося в модусе исполнения условной роли, подобно тому, как ребёнок, играющий в тигра, отделяет себя-ребёнка от себя-тигра. Если мы ему начнём объяснять, что он не тигр, это будет излишним, ведь он знает, что он не тигр, но временный самообман помогает ему отсоединиться от этого знания как от себя-рефлексирующего.
15. Но если ребёнок скажет для себя, что он тигр, или официант скажет самому себе (а не Другому), что он официант, то эти двое вдруг перестанут играть и станут настоящими ребёнком и официантом. Краснобай тот, кто играет с речью, поскольку он не может быть говорящим, ученик, который очень хочет быть внимательным, смотрит прикованным взглядом на учителя, вострит уши — тут же изнуряется, изнемогает и его игра заканчивается тем, что он уже больше ничего не слышит.
Несчастен и тот школяр, которому родитель объясняет по слогам: сум-ма квад-ра-тов ка-те-тов. Ведь он же — школяр — не может сам направить своего себя-вникающего на эти понятия, это невозможно, чтобы понять что-то, надо этим стать.
16. Эту мысль очень хорошо артикулирует Сартр: «Если я делаю себя печальным, то это потому, что я не являюсь печальным: бытие печали от меня ускользает посредством самого акта и в самом акте, которым я затрагиваюсь печалью. Бытие-в-себе печали постоянно преследует моё сознание печального бытия, но именно как ценность, которую я не могу реализовать, как регулирующий смысл моей печали, а не как её конститутивная модальность» (Ж.-П. Сартр «Бытие и ничто»).
Поэтому восприятие никогда не будет вызываться моими усилиями, оно возникает лишь постольку, поскольку оно вызывается извне, оно возникает в качестве своего собственного опосредования с трансцендентностью. Бытие сознания есть сознание бытия. А само сознание есть то, чем оно не является и не есть то, чем оно является. Вот оно — убегающее ото всякого методологического контроля.
17. Но мы несколько отошли от игры. Итак, самообман — это неискренность. И в этом проблема, поскольку если я — как и ребёнок-тигр — заявлю, что я искренен, то я сразу перестану быть таковым. Чтобы быть искренним, мне надо пребывать — как официанту кафе – в самообмане. Таким образом, искренность есть феномен самообмана, если угодно, это его разновидность.
18. Глубокий смысл, вооружившись этим положением, мы находим в выражении «признанный грех наполовину прощенный грех». От человека требуют признаться в том, что он грешник, чтобы он перестал быть грешником, от виновного требуется, чтобы он конституировался как вещь — вспомним пример с женщиной на свидании — с тем, чтобы не рассматриваться как вещь. Отмечено также насколько неэтично и неестественно звучат похвалы самому себе. Они звучат и сразу достоинства принижаются, как бы уничтожаясь таким заявлением.
Вот и искренний человек, заявляя о своей искренности, конституируется как то, что он есть, чтобы им не быть. Сознание есть то, чем оно не является и не есть то, чем оно является.
19. «Природа сознания такова, что в нём опосредованное и непосредственное являются одним и тем же бытием. Верить — значит знать, что веришь, а знать, что веришь, — значит больше не верить. Таким образом, верить — значит больше не верить, поскольку только это и означает верить, то и другое – в единстве неполагаемого (нететического) сознания себя. <…> Таким образом, вера есть бытие, которое ставится под вопрос в своём бытии и может реализоваться только в своём разрушении, может обнаружиться, только отрицая себя; это бытие, для которого быть — значит появляться, а появляться — значит отрицаться» («Бытие и ничто»).
20. Вот и игра — искренний самообман дорефлексивного себя (или, как выразился бы Декарт, дорефлексивного cogito). Кроме того, чтобы играть, сознание должно быть игрой, также как сознание для бедного школьника должно быть знанием теоремы Пифагора. В противном случае, оно будет лишь воспоминанием набора фраз. Сознание как игра, ускользает от себя самого и от Другого, и поэтому, неуловимо.
21. Если мыслить меня как рефлектирующую субстанцию, а моего пса, Пафоса, как нерефлектирующую, но понимающую субстанцию, то «разговор» или «диалог» между нами возможет только в модусе игры и именно с помощью игры я, как человек, больше не стою выше над псом, как животным. Конечно, играя с ним, я уподобляюсь ребенку, но ведь дети тоже не ставят приоритетов между формами живого бытия, общаясь, подчас, на равных, с поездами, солдатиками или жуками.
22. Здесь, по моему мнению, скрыта онтологическая сущность игры. Играя, я нахожусь в одном модусе не только с моей ролью, отведённой игрой, но и в одном модусе с бытием в принципе. Бытие больше не прячется от меня в своих проявлениях, оно открыто мне, оно выступает мне навстречу. Именно таковой смысл выступания-навстречу бытию есть хайдеггеровское Dasein (вот-бытие). Человек не просто сам по себе, он человек в бытии, в вот-бытии, поэтому и конфликт первичности сознания или бытия теряет силу.
23. Сознание есть игра, а бытие в игре выступает мне навстречу. Это и есть истина, которую греки называли непотаённостью. Это и есть экзистенция в полном смысле слова (по-латыни «выступать» и значит «эк-зистировать»).
Стало быть, Ego ludo ergo sum.
© Nevzdrasmion, 2010


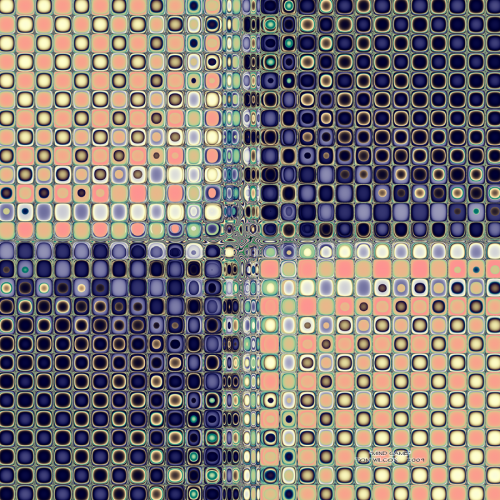
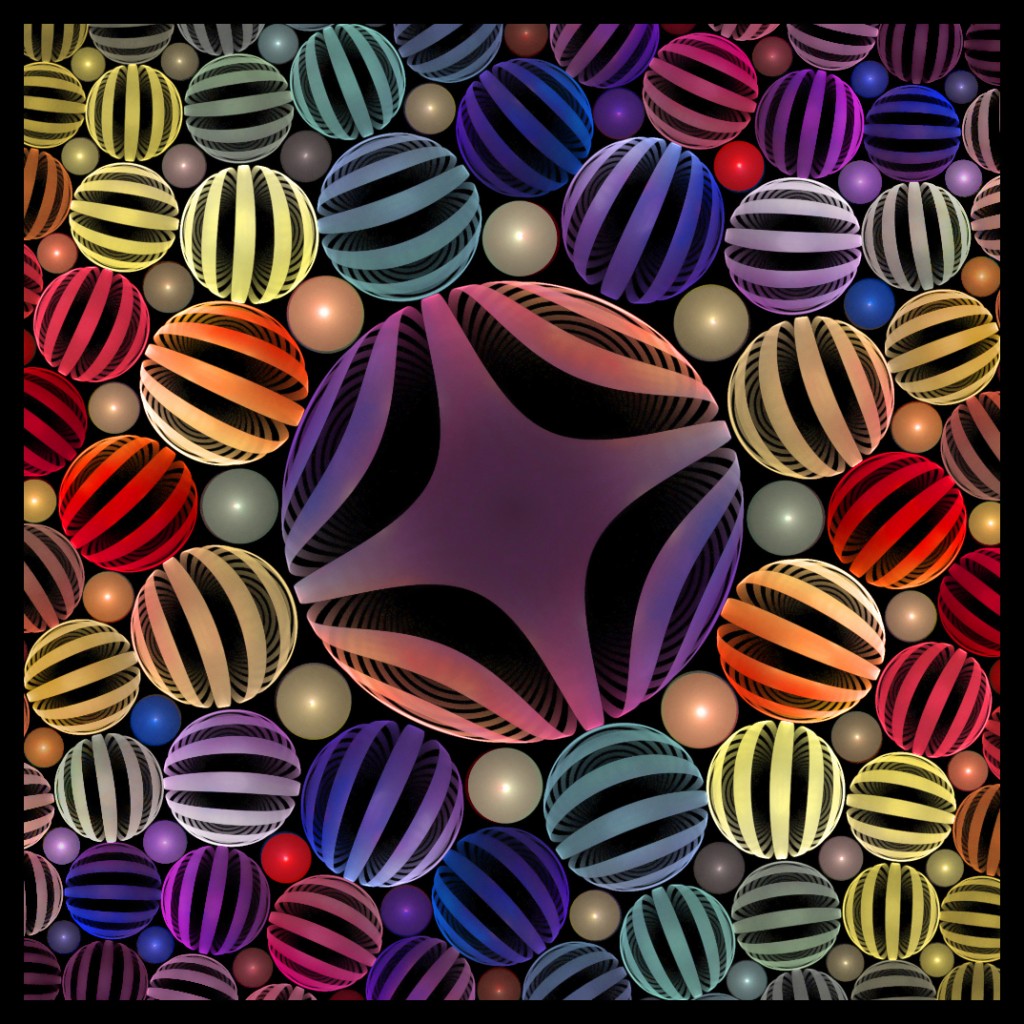

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: