Поверхность и птицегадатели смысла
Первая серия парадоксов: событие
Что такое поверхность? В духе Хайдеггера можно определить поверхность как то, чем вещь себя «кажет». Это даже не слой, лишь одной стороной представленный взгляду, ведь любое движение в его глубину поверхностью являться уже не будет. Поверхность тела, скажем, камня, можно измерить, но ведь, разломив камень, мы опять обнаружим поверхность, и всё измерение придётся производить заново. Потенциально, весь камень будет поверхностью, раз нет ничего, не могущего быть оторванным от другой массы и быть видимым. То, что себя кажет, называется феноменом. Материя есть substantia phaenomenon, как сказал Кант; всё есть чистая поверхность и кажимость. «Выглядеть» и значит — иметь поверхность. То, у чего нет поверхности, выглядеть не может.
Движение на поверхности принимает форму скольжения, мгновенной передачи импульса, причем импульс и движение — это одно и тоже. Вся мыслительная часть мозга сосредоточена на кортексе (коре) а мысль — это чистое скольжение. Когда молния собирается ударить в землю, она выбирает себе поверхность, по которой скользнёт вниз. Мысль похожа на молнию, но берет от неё не разрушительную силу, а скорость и способ движения, вот почему богом мысли, понимания и интерпретации был не Зевс, а его сын Гермес.
Как рассказать о поверхности, раз это всё выглядящее? Когда язык высказывает: Дерево зеленеет, идёт ли речь о поверхности тела или о его глубине? Очевидно, о поверхности. Дерево в данном случае не действует изнутри, ему как бы сообщается новый атрибут. Но зеленеть (атрибут) не совпадает с телом, хотя на деле зеленеющее дерево — это не дерево и свойство быть зеленеющим.
Всё дело в языке, который сообщает телам идеальное, приписывает им атрибуты, заставляет их зеленеть, краснеть, румяниться, кипеть и страдать. Язык занят высказываниями о поверхности вещей, ведь движение может быть только поверхностным. А в движении залог действия языка.
Скальпелем делают надрезы, ножом разделяют тела, и везде это телесное страдание высвобождает наружу поверхность тел, нечто идеальное. Скальпель не режет, а сообщает телу разрез, раз-ъятость, он одаривает его поверхностью, которая до этого была глухой толщей.
Именно в таких толщах осуществляется смерть или жизнь, ведь они одинаково отделены от этого тела языком (в том смысле, в каком зеленеть отделено от дерева).
Есть тело, в толще которого внутренние силы гонят жидкости, уводят их мельчайшими порциями через мембраны; в этом теле, в его неразъятой толще глохнет тупой тук-тук. Но в нём нет жизни или смерти, они идеальны и есть только в языке.
Надрезы, царапины, сечения — порождают поверхности и события, вносящие энтропию в стройную организацию плоти; не даром тело как бы отгораживаться от того, чтобы не казать себя там, где оно разъято. Появляются шрамы, рубцы, наросты, обтекания инородных тел, проглатывание толщами деревьев оград, мышцами дробинок, эпидермисом заноз и острокрайных кристалликов стекла от разбившейся ёлочной игрушки; а потом медленное, затянутое на года, выведение всего этого вон.
В глубине всё должно либо поглощать, либо быть поглощенным и растворённым в общей массе.
Земля открывается как поверхность, главным образом, ранами, шахтами, раскопками, скважинами — происходит разъятие толщи для высвобождения поверхности разъятого. Мертвое тело уходит в землю без этого разъятия, наоборот, мертвое оседает на остове тела и растворяется в земле, вымывается водой, если не будет растаскано ещё одной программой — червями, которые тоже исключительно глубинны, благодаря их строению они сливаются с неразъятой землей или мясом, а в куче, заплодившей брюхо мёртвой лошади, так поразившей Бодлера, выглядят одним большим непрестанно мерцающим организмом.
То, что произрастает в земле, растворяется в ней — корневая система, мицелий, даже вода не проникает, а пропитывает землю: только так можно попасть в глубину: корням и ризомам забыться, согласиться с землёй.
Налицо две совершенно разные логики глубины и поверхности. Событие и язык существуют благодаря поверхности, а жизнь и смерть — уже глубинные процессы, вот почему языку про них сказать нечего.
Смерть появляется только в языке, нигде больше она не показана. Она чистейшее идеальное, но только антифеноменальное, то, что не выражаемо никак. Кстати, почти тут же мёртвое тело уничтожает свою поверхность: происходит увязание, съёживание, вваливание; материя сохнет, покрывается морщинами и трещинами, рвутся бестелесные связи, окисляются жидкости и цепочки.
Если поверхность — это условие события, то смерть не событие, ибо она схлопывает поверхности. Точно так же и жизнь. Кристалл растёт за счёт своих краев, но организм растёт всей массой и толщей, сквозь которую тоже не пробиться никакому феномену.
То, что происходит на поверхности, называется событием. Лотман демонстрирует такой пример. Возьмем географическую карту: она представляет собой текст, но только не линейный, а данный сразу и целиком: мы мысленно бродим по карте, считывая знаки, но, тем не менее, не находим события: текст бессобытиен, бессюжетен. Но вот мы берем красный карандаш и чертим линию от пункта А до пункта Б. Линией мы преодолеваем первичную структуру карты. Линия как такое преодоление будет событием, а этот текст станет сюжетным.
Итак, мы обнаруживаем существование нескольких измерений. Во-первых, измерение языка, который приписывает телам атрибуты и заставляет их страдать (зеленеть, краснеть, румяниться) как скальпель приписывает телу атрибут быть разрезанным. На самом деле, между атрибутом тела и телом полное тождество. Дереву может быть приписан атрибут зеленеть только потому, что оно может быть и не зеленеющим. В то же время кругу не приписывается атрибут быть круглым — это излишне, ведь здесь идеальный атрибут (быть круглым) возник из идеи тела.
Такие предложения могут порождать только тавтологию. Во-вторых, у нас есть поверхность, по которой движется язык, которая выглядит и кажет себя. В‑третьих, у нас есть событие, которое существует только на поверхности. Язык предназначен для описания событий — идеальное описывает другое идеальное и живет только на плоскости, не имеющей глубины.
Чем больше будет происходить событий, тем больше они будут втягиваться в это безглубинное измерение и воздействовать на тела, резать и калечить их. Бестелесное и идеальное движутся вдоль тел, огибая их контуры.
Вторая серия парадоксов: Кэрролл
Алиса падает в разъятую нору, а потом сквозь латеральные проходы приходит к плоским картам без толщины. Как говорит Делёз, в «Алисе» глубоки только животные, оттого они не столь благородны, как эти плоские придворные. Движение Алисы это движение к поверхности. В конце концов, она должна прийти в Зазеркалье — мир, обратный нашему, но только целиком цепляющийся за тончайшую плёнку, напыление, амальгаму зеркала.
Там, где происходит разъятие этой поверхности — трещина или отслаивание, как это бывает на старых зеркалах, — мир перестает существовать, туда вводится нежелательная глубина, мир поверхности, приобретая дополнительные измерения, становится плоским и течёт — как медузы, вытащенные на воздух.
Открытие поверхности — удел лишь маленькой девочки. Этим и объясняется то, что Кэрролл не любил мальчиков: они мыслят вертикально, в них много глубины, иногда подчас фальшивой мудрости. Вот и взрослым не доступна поверхность, они слишком глубоки, возможно, растворены в языке, на котором говорят, подпали под власть его основания, словно корни слились с землёй.
В «Алисе» мальчик сразу же превращается в поросенка. Но иногда мальчик не скатывается к глубинному мышлению. Случается, что мальчик оказывается левшой или заикой и улавливает смысл как двойной смысл поверхности (о чем речь ещё впереди).
На коронационном обеде Алисы нужно съесть то, что вам представили, либо быть представленным тому, что вы едите. Есть или быть съеденным — это две вариации глубинных действий тел, их перемешивания, и взаимодействия. Но представляться — это уже действие поверхностного дискурса. Едят ли кошки мошек, едят ли мошки кошек; это время следует за часами или часы — за временем?
Почему вообще возможны такие пермутации? Прежде всего, они возможны только в языке, который устанавливает связи между мошками и кошками (cats and bats в оригинале), строя их по фонетической близости означающих. Иногда играть могут означаемыми (случай с часами и временем). Главное в том, что не только язык движется по поверхности вещей, но и внутри самого языка есть движение.
Высказывание предстаёт перед нами как структура. Какие же минимальные условия для образования любой структуры? Во-первых, это две разнородные серии: означающих и означаемых. Причем, мы имеем определенные отношения также внутри каждой из серий. Далее, две эти серии сходятся к парадоксальному элементу, который является их различителем. Это как бы пустая клетка, в которой селится существо, которое нельзя поймать (вроде Снарка) и которое имеет свойство не совпадать само с собой; это смысл. С одной стороны, мы всегда понимаем смысл предложения и за счёт синонимов можем растолковать его, но уже, репрезентировав его другой серией означаемых и означающих.
За счёт этого движения языка, где исходное имя обозначается другим именем и так далее, смысл ускользает от нас (смотри ниже историю с Рыцарем). Когда ловят Снарка, он оказывается Буджумом, когда мы ловим смысл, он оказывается чем-то ещё, не переставая быть собой. В «Снарке» Кэрролл называет имя, которое высказывает свой собственный смысл, а это может быть только нонсенс (Буджум — это не разновидность, не вид Снарка, как дуб есть вид дерева). Вот почему смысл — это парадоксальная инстанция.
Другой пример, но уже не из Кэрролла. Четверостишье-пирожок, записанное как и положено, без знаков препинания и заглавных букв.
о подозрительных предметах
я машинисту сообщил
два бильбоке одна клепсидра
жабо спирограф и бювар
Комический эффект этого четверостишья возможен только потому что возможен язык. На деле жабо, клепсидра, бювар — обычные предметы быта и обнаружить их в вагоне было бы также необычно как воротник, песочные часы или папку для бумаг (собственно, это они и есть). Но здесь у нас имеется своеобразный избыток означающих: все эти слова помимо явного заимствования обнаруживают и необычность для нашего уха: странность означающих переносится на сами вещи, вернее вещи конституируются как чистые означающие, можно даже не знать, что это всё такое и при том смеяться.
Всё действие стишка разыгрывается между вещами и предложениями (языком), описывающими эти вещи. Только благодаря пространству, которое их отделяет, и возможен комизм. Но в этой щели обитает также измерение смысла. Вернее есть свободное пространство, за счет которого возможно движение к вещам и к предложениям: смысл как масло на сковородке — оно залог того, что мясо не сольётся с железом (обретет глубинное измерение) и не пригорит. Мысль непрестанно курсирует через эту пустую клетку (инстанцию смысла) к поверхности вещей и тому, как эти вещи конституированы в языке (тоже поверхности). Стишок — это лента Мёбиуса, у которой обратная и внутренняя сторона суть одно и то же.
Хотя внимательный читатель заметит, что тут можно смеяться по разным причинам: потому что эти предметы названы подозрительными, потому что так формально и дословно соблюдается требование машиниста, потому что постоянно нарастает цепь непонятных слов. Неважно, чем заполнится пустая клетка смысла; особо вдумчивые люди с хорошим чувством юмора умеют смаковать шутки — вертеть их с разных сторон, чтобы найти дополнительные причины заполнить место смысла.
В Зазеркалье Алиса встречает Рыцаря, который объявляет заглавие песни, которую собирается спеть: «Заглавие этой песни называется Пуговки для сюртуков». — «Вы хотите сказать — песня так называется?» — спросила Алиса, стараясь заинтересоваться песней. «Нет, ты не понимаешь, — ответил нетерпеливо Рыцарь, — это заглавие так называется. А песня называется Древний старичок». — «Мне надо было спросить: это у песни такое заглавие?» — поправила Алиса. «Да нет! Заглавие совсем другое. С горем пополам. Но это она только так называется!» — «А песня это какая?» — спросила Алиса в полной растерянности. «Я как раз собирался тебе это сказать. Сидящий на стене! Вот какая это песня!..».
Здесь мы имеем регресс, поэтому стоит начинать с конца. Кэрролл говорит, что в действительности песня — Сидящий на стене. Это и есть имя (допустим, n1), которое является песней и которое появляется в первом куплете. Но это не имя песни: будучи сама именем, песня обозначается другим именем. Второе имя (n2) С горем пополам — имя, обозначающее песню, то есть, какое у песни заглавие. Но настоящее имя — Древний старичок, а четвертое имя — Пуговки для сюртуков это так называется заглавие этой песни.
Рыцарь заполняет место смысла самой возможностью номинации каждого элемента.
«Смысл — это то, что может быть выражено или выражаемое предложения, и атрибут состояния вещей. Он развёрнут одной стороной к вещам, а другой — к предложениям. Но он не смешивается ни с предложениями, ни с состоянием вещей или качеством, которое данное предложение обозначает. Он является границей между предложениями и вещами». (Ж. Делёз «Логика смысла»).
Именно существование этой пустой клетки между вещами и словами есть условие смысла. У Кэрролла все парадоксы и логические шутки случаются в языке и посредством языка:
«Алиса» есть особой отточенности дискурс. «У Кэрролла событие представляется дважды: один раз в предложении, где оно обитает, а другой раз в состоянии вещей, где оно неожиданно появляется на поверхности».
Любой парадокс Кэрролла принадлежит прежде всего полю языка, именно благодаря нему становятся возможны и знаменитые слова-бумажники, вроде Бармаглота, светозвуконепроницаемости или Снарка, который в конце концов оказывается Буджумом.
Третья серия парадоксов: птицегадатель
При шизофрении инстанция смысла оказывается разрушенной, поверхность вещей раскалывается и заполняется трещинами: между вещами и предложениями нет никакой границы, а у тел — поверхности. Мир становится монолитным, словно вылитым из куска металла, тела лишаются органов, а те или иные слова ранят.
Левши, заики, птицегадатели и оракулы в силу особенностей производства дискурса обращены к смыслу и к поверхности — и языка и вещей. Аутисты тоже не знают глубины; без чувственного компонента сознания, в согласии с которым любой здоровый человек понимает другого по невербальным знакам, жестам, произношению, для них не существует Другого. Их Я конституируется как бы в зияющей пустоте. Для них не существует даже вопроса о том, чтобы понять другого, сделать своеобразный шаг вглубь.
Без Другого аутист привыкает работать с поверхностью и изобретает свои поверхностные стратегии движения мысли; всему тому многочисленные примеры Сакса про аутистов, которые обладают навыками по складыванию восьмизначных числе в уме или высчитыванию, на какой день недели придётся 18 июля 3333 года, притом, что они не могут уравнять правильно даже простейшую дробь.
Для птицегадателя небо делится на секции и по ним распределяются линии полёта птиц, а на земле изучаются следы, оставленными свиными рылами; печень животных извлекается наружу, где рассматриваются её узоры, бороздки и прожилки. Прорицание — это не только производство дискурса, это искусство поверхностей, линий и сингулярных точек. Топологическое пространство здесь упразднено, всё подчиняется логике бестелесных линий, идеальных атрибутов своеобразной поверхности, где происходит интерпретация смысла этих образов.
Поль Валери сказал, что глубочайшее — это кожа. В то же время это и самое поверхностное образование, на котором селится смысл; считывание эмоций, жестов, простого выражения лица происходит на какой-то сверхтонкой поверхности этой самой кожи. Между тем, простой вид её сечений невольно приносит боль. На этой поверхности наблюдаются преломления многих систем, обладающих мерностью, взять только кожные болезни.
Если мы имеем дело с болезнью внутреннего органа или недолжным функционированием какой-нибудь системы, мы как диагносты приходим к ней, используя знаки, которыми это нарушение кажет себя на поверхности: цвет кожи, вздутия, анализ крови и прочее. Скажем, красное пятно на носу вроде бабочки отсылает к волчанке, которая сущностно коренится уже в иммунной системе. Но есть такие дерматозы, которые не отсылают ни к чему, кроме самих себя; они настолько поверхностны, что выражают свой собственный смысл, их вполне можно считать болезнью-нонсенсом.
Сюда же можно отнести и родинки, не даром они становятся объектом гадания и предсказывания или более обще — смыслоусмотрения.
Между языком и вещами, между событиями и состоянием вещей, между пограничными зонами, вроде поверхности воды и воздухом рождаются самые парадоксальные, мерцающие, ускользающие, бестелесные и ломкие образования.
Пена, крем, туман.
Тут селятся самые неуловимые, мимикрикующие, пропускающие или отражающие, зажигающиеся или гаснущие структурные образования.
Именно таково место обитания смысла.
© Nevzdrasmion, 2011


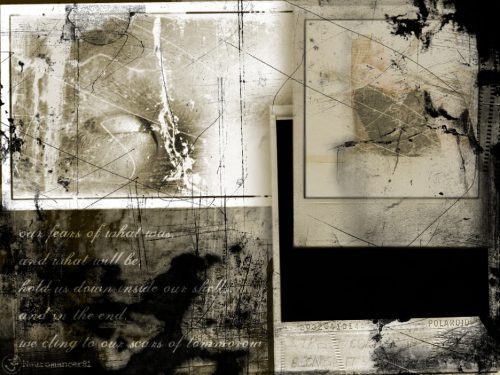






Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: