Голос из чёрного зеркала
Обычное бодрствующее сознание — это всего лишь одна частная разновидность сознания, тогда как везде вокруг нас за тончайшей завесой находятся потенциальные возможности сознания всецело иного… Ни одно описание вселенной в её целостности не может быть окончательным, если оно не принимает во внимание эти другие формы сознания.
Уильям Джеймс
0
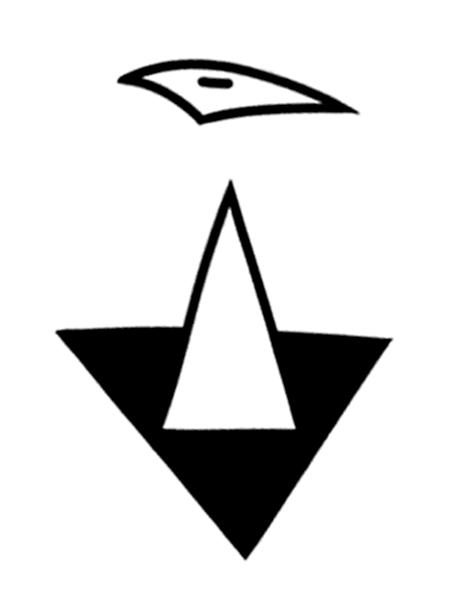 Кое-что в темноте виднее, чем на свету, чётче во сне, а наяву расплывчато, в одержимости или бреду очевидно и ясно, а в полном сознании легко забывается.
Кое-что в темноте виднее, чем на свету, чётче во сне, а наяву расплывчато, в одержимости или бреду очевидно и ясно, а в полном сознании легко забывается.
На беду всем рациональным, трезвомыслящим, теплохладным сердцем и головой живущим, на беду всем нам, это кое-что — золото, тайная душа всего, и без него — лишь шелуха и скорлупы.
Увы, но лабиринта шелухи и скорлуп нам в жизни вполне довольно, и лишь изредка кажется, будто кто-то зовёт прочь. Только куда ни повернись, куда ни приди, куда ни ткнись — оттуда прочь и зовёт. А когда не зовёт — нам достаточно быть лошадкой на карусели по имени Жизнь, носящейся кругами, бессмысленной, нарядной — и никаких Откровений.
Но до того как стать трупом, которого ты солидно приоденешь в гроб, — откликнись на зов, оставь этот муторный сон, мясной цирк. Вернись хоть ненадолго с той стороны разбитого чёрного зеркала туда, где всегда был, где в забытьи обретаешься до сих пор — где и я, и все мы; где вместо десятков и сотен призрачных родных лиц — лишь один лик.
Там оставил ты Голос ещё до того, как разбить зеркало – и вот теперь он зовёт тебя продольно и вширь, в глубину и ввысь. Проснись.
I
Зов был почти нестерпимым. Зов такой, что ушами не услышишь, а вот сердце из груди выпрыгнет, да и ногти, пожалуй, пообломаешь об стену, через которую больше некуда жить – так что я заранее был готов лезть в любое пекло, ну и полез. Будто заблудился в лесу и уже понял, что совсем безнадёжно, – и тут слышишь знакомый, но едва различимый Голос, конечно, бросаешься к нему стремглав, даже если в той стороне одно болото. Странно, но зов хоть и без звука, но не без цвета – он был золотой, но не как металл, а скорее как солнечный зайчик или накатывающие перед сном цветные пятна.
И вот я иду на зов – и нахожу это самое золото: то тут мелкое зёрнышко проступит и растает, то там… Но теперь уже и сам тому не рад.
Не рад потому, что, кажется, золото кому-то нужно, и раз я его нахожу, то становлюсь нужен и я… Кто-то слева беззвучно дышит прямо в плечо. Молчит, но ясно, когда это молчаливое согласие, когда возражение, отвращение, паника или удовольствие.
Несмотря на шестой час утра, мясорубка в этом болоте только набирает обороты – фактически, болото прямо кипит: на столе грязной кухни нехорошей съёмной квартиры чашка из-за геометрического узора постоянно падает в себя и никак не может провалиться, берёза, гигантский вертикальный червь, сокращается за окном. С пришпиленных к холодильнику и стенам чб-распечаток глядят Кафка (под рукой у него зверь из пламени с глазами-звёздами), Филип Дик (смотрит свирепо, будто из последних сил пытаясь тебя понять), Берроуз (холодная, спокойная и сосредоточенная сороконожка). Ни дать ни взять таинство перед высшими ликами пандемониума…
Когда мир становится сплошным химическим ожогом, это в первую очередь очень больно – но за болью становится видно, что сожжённые покровы всё это время скрывали не предназначенные для человеческого взгляда пути. За содранной кожей мира видна недоступная осмыслению машинерия, плоть бытия, от попыток взглянуть на которую только трясёт; стоило ли вскрывать то, что глаз твой не возьмёт, и голова твоя, и без того спиралью идущая, не переварит?..
Кто-то слева недоволен, что я вообще туда смотрю: ему нравится, когда я смотрю только на себя (во всех смыслах). Вот операция с зеркалом пришлась ему по нраву – наверное, потому, что кончилась плохо. Из рамы на меня взглянула бродячая руина. Вместо лица – рухнувшая стена, кирпичный завал; пахнет подземной сыростью и плесенью; кажется, там где-то внутри труп? Будто бесы вселились не в свиней, а в давно оставленную развалину. Тем не менее там есть и кто-то живой: что-то золотистое мерцает сквозь грязное окошко, и будто пробивается через него лучик фонарика – но увы, граница из стекла не даёт ему покинуть страшную сцену.
Каково было только после этого осознать, что всё это время пялился в зеркало, и «лучик фонарика» был моим собственным взглядом!.. Понять бы только, с какой стороны…
Это было… Два часа назад? Три? Я чувствую улыбку слева, будто растянутую во всю ширь потерянного времени – тем жирнее эта улыбка, чем более впустую эти часы пропали.
Таково его княжество. Вся эта кипучая, копошащаяся свалка бесноватых образов и шаблонов обыденности – пустыня из мучительно разнообразного мусора, нужная лишь затем, чтобы впитывать время. Так она сопротивляется самой возможности её преодоления: чем больше уделить ей внимания, тем она чётче. И сопротивляется она так остервенело, что ясно: за ней будет не оазис, а сразу океан, безбрежный, переполненный, блаженный, чуждый мрачной суеты и бесовского мельтешения.
От этого понимания чувствуется дуновение свежего бриза. Приходит ветер и развеивает меня, как протухший сон, – и как будто подёргивается застывшая в потерянном времени улыбка…
По рассеянности смахиваю с кухонного стола какой-то золотистый ключик, будто забытый здесь кем-то. И тут вспоминаю, что на кухне я всё это время был не один: из-за того же стола медленно встаёт дивная женщина-птица. У неё неподвижные чёрные глаза – птичьи, чужие на приветливом женском лице, то ли детском, то ли старческом (наверное, так кажется из-за аккуратного изогнутого клюва); длинные пальцы-когти – ими бы хватать добычу; её присутствие вкрадчиво, незаметно, уютно даже – но хищно.
На лице женщины-птицы сияет улыбка – в противовес напряжённому взгляду; женщина-птица наклоняется к полу, берёт с него ключ, улыбаясь, протягивает мне. Принимая, отвешиваю благодарный поклон и случайно роняю, ключ скользит к её ногам. Женщина-птица наклоняется к полу, берёт с него ключ, улыбаясь, протягивает мне. Принимая, отвешиваю благодарный поклон и случайно роняю, ключ скользит к её ногам. Женщина-птица наклоняется к полу, берёт с него ключ, улыбаясь, протягивает мне. Принимая, отвешиваю благодарный поклон и случайно роняю, ключ скользит к её ногам. Женщина-пти
Стоп… Сколько раз мы это сделали? Сколько раз она давала мне ключ?!
Кажется, что слева кто-то беззвучно дышит прямо в плечо. Молчит, но ясно, когда это молчаливое согласие, когда возражение, отвращение, паника или удовольствие. Началу каждого цикла с ключом и птицей он будто благосклонно кивает: кажется, так и не поймёшь, у чьих объедков ты танцуешь.
II
Кажется, будто пошёл на зов, но угодил в болото.
Когда «мясорубка» заканчивается – а на это уходят почти целые следующие сутки, – когда наступает муторное сонное забытье и приходится остаться наедине со всем произошедшим, становится только хуже.
Любой порядочный сон, пусть и наяву, должен развеиваться после пробуждения – а этого не происходит. Людоедская свалка менее заметная, вялая – но она не просто на месте: оказывается, она всегда здесь была, в болото я не зашёл по зову, а из него вырос… а вот в какой-то там «океан свободы» где-то за пределами болота верится уже с трудом, да и нужды в нём почти не чувствуется.
Чёрно-белые распечатанные Кафка, Дик и Берроуз уже не столь живо интересуются происходящим, но неприятные понимающие улыбочки где-то в уголках губ угадываются. Отражение в том самом зеркале обычное, но наблюдать тень бесноватого заброса можно сколько пожелаешь. Ну и за левым плечом никакого дыхания не чувствуется… Зато жуткая улыбка, кажется, на месте?
Мир начинает потихоньку заживать – но оставшиеся шрамы запудрить уже никогда не удастся; сквозь них зов будет звучать чётче, но этого будет тяжелее – болезненные новости!
Но есть и хорошие. Тот ключ добыть всё-таки удалось, и это кажется важным предзнаменованием: он – чистое золото! Что не менее важно, женщина-птица осталась – только приоделась в человечью маску, но почти прозрачную, неубедительную. С тех пор она станет иногда приносить ключи – и принимать их в дар. С ней можно иногда остаться в тёмной комнате – если смотреть за её левое плечо, то маска спадает: снова глаза-колодцы, изогнутый клюв, снова руки-когти, снова перья – зачем это всё?
А затем, что за левым плечом теперь с каждым днём всё тяжелее – будто там что-то бухнет и растёт, растягивается и жиреет ничья улыбка – как червь, как пиявка, раздувающаяся от крови.
Спокойная, убаюкивающая тяжесть будней уносит остроту переживания – затем и тебя унесёт, не успеешь оглянуться, как не было никакого золота, не было птицы, не было зеркала, а были только сумбурные дурные сны да куча грязной шелухи, от которой побыстрее бы избавиться. Затягивает болото, чавкает тина!
Ну и как быть?
А вот как: взять добытый не во сне и не наяву, не у человека и не птицы ключ, вставить его в скважину в своей голове и провернуть.
По большей части то, что оттуда посыплется, хоть и заблестит, растает, стоит только взять в руки. Что-то илом растечётся, что-то грязью, что-то окажется пучком болотной травы – но что-то засверкает настоящим золотом, долгожданным, с трудом добытым!
Всё было неспроста, и всё было к месту – да, зов пришёл со стороны опасного болота, хищного, злого – но ведь там нашёлся заветный ключик! И там же нет-нет, да просматривается тропа, и даже следы кого-то, кто звал, кажется, заметны – ну, не следы, а будто у кого-то прохудился кошель и сыплются за невнимательным путником золотые зёрнышки дорожкой – а ты знай подбирай, не оставаться же им тут.
Лишь вот что странно: с каждой следующей золотой находкой шагается не тяжелее, а проще, будто каждая прорастает и шагает вместе с тобой – аж светлее вокруг. Идёт время – наяву всё становится тоньше, а сны, наоборот, всё плотнее и подробнее; законы сновидений вдруг начинают работать в жизни – а сны становятся всё более увесистыми и связными; и со временем маска спадает уже не с одной лишь женщины-птицы.
И вот подходит момент, когда кажется, что подошла к концу тропка, наконец удастся вырвать себя из цепких жвал слева, что кончится хищная свалка, что кончается болото – и даже чудится свежий бриз, освобождающий, обновляющий, наполняющий силами.
И тогда действительно будто рушится какая-то дамба – и сквозь брешь врывается океан. Нахлынув, он смывает всё – болото, птицу, тебя, – но в нём не свежесть и не свобода. Это страшный океан, пугающий, это океан бушующего золотого пламени и грома чужого, не человеческого Голоса; это огненная буря и дух в этой буре, которой чуждо время, чужды оковы – но чужд и разум, и ты сам.
Пламя пугающее – но знакомое. Оно золотое – пустившие в тебя корни золотые семена, оказавшись в благодатной почве, проросли, зацвели – и цвет этот ослепляет, устрашает, сводит с ума, обращает в бегство; а ведь будет ещё плод.
И теперь вместо знакомого, унылого и удобного – чуждое буйство, от которого не закрыться, не убежать – можно ли перед таким не дрогнуть? Но стоит дрогнуть… тяжесть слева тоже расцветает, улыбка превращается в раскрывшуюся пасть, и ошеломительный океан исчезает, а вокруг смыкается тьма.
Тьма, сквозь которую ни лучику света, ни крупице золота уже не пройти.
Нет, это не был океан света и огня. Это была малая искорка, которая спалила тебя дотла – и оставила лишь мрак.
Кажется, будто пошёл на зов, но угодил в болото, в котором и утонул.
III
Кажется, будто пошёл на зов, но угодил в болото, утонул в нём и увидел его чёрную, мрачную, торфяную изнанку.
Это было так: в реторту полного молчания упало золотистое семечко, но оттуда явилась бесконечно протяжённая плоская тварь без членов, с одним лишь бесформенным телом от горизонта до горизонта, свернулась в клубок и сама в себе потерялась.
Берегись! Не спрятаться в счастливом животном неведении. Не спрятаться ни в горе, ни в счастье. Не спрятаться ни в победе, ни в неудаче. Не спрятаться ни в вожделении, ни в отвращении. Не спрятаться ни в понимании, ни в умозаключении. Не спрятаться ни в молчаливом созерцании, ни в белоснежном сиянии того созерцания, ведь
– ты мёртв, ты мёртв, ты мёртв, ты – бродячий призрак, твоя плоть – голодные сны, твой взгляд – зияние могилы, твоё прикосновение – вампирический укус, ты можешь жить лишь задом наперёд, ты – тень действующего, а не действующий, ты лишь смутное и мимолётное отражение, столкновение чуждого тебе живого Золота с грубой грязной тенью, истинным тобой.
Но ЯестьЯ – иное! Все зеркала, которые ЯестьЯ нахожу, для меня мелки – под моим взглядом они дрожат, будто бельё на ветру, в них видны лишь расползающиеся обрывки образа, которые не только не желают остаться едины, но даже собачатся, сражаются, заключают союзы и искажают друг друга. И это лучший из вариантов; ЯестьЯ не желаю увидеть то, что будет единым отражением этого разобщения… Отражения кружатся, затягивают взгляд мой внутрь зеркала могучим кружением, и вот уже не мой взгляд, а само лицо втягивается в зеркало – дрожа, оно пережёвывает мою плоть, отрастив костяные зубы прямо на дереве рамы.
Пока ЯестьЯ погружаю лицо в зеркало в своей комнате, ЯестьЯ очень люблю прогуливаться по кровоточащим лице-мостовым, скользить по ним червём, выглядывая своих знакомцев: случайные встречные, длинные тонкие чёрные фигуры многоэтажного роста склоняются надо мной, и приветливо режут мне лицо, и сосут глазами истончающуюся плоть сигнала самого моего присутствия, и гладят меня по голове – с каждым движением немного меня налипает им на руки…
Но целью моих прогулок обычно бывают не случайные знакомцы, а труп, распятый на центральной площади. Его гигантский, раздутый череп, раздавшийся под огромным количеством личинок, заблудившихся в мозге, вывернувшись на нитке позвоночника, почти очищенного от плоти, свисает, прижимая затылок к грудине, смотрит на меня огромными полупустыми глазницами, в которых глаза постоянно вяло пережёвываются мощно работающими челюстями. ЯестьЯ смотрю на этого странного человека, объятого чёрным пламенем множества глаз-ртов, – он приходит сюда ко мне ежедневно, пока ЯестьЯ смотрю в пережёвывающее меня зеркало, а ЯестьЯ гуляю к трупу на главной площади. Смотрит на меня пустым взглядом, и мне ничего не остаётся, кроме как снова сделать то, что я делаю ежедневно: напрячь все мышцы распятого тела, поднять распухший череп раскрыть глаз рта и полоумно рассмеяться.
Смутные фигуры, окружающие меня и его, падают на спины, и кажется, будто они катятся куда-то назад, хотя на самом деле они ползут на своих тенях прочь, изнемогая, как от оргазма, от моего крика, а мы смотрим друг на друга, и ЯестьЯ смотрю на кричащий распятый труп, и его крик дует на меня, как ветер, а ЯестьЯ смотрю на незнакомца, которому я кричу ежедневно о том, что ЯестьЯ, а ЯестьЯ всё ещё смотрю, и смотрю, и смотрю на жующее меня зеркало, а из него всё бьёт и бьёт золотой фонтан…
И ЯестьЯ отвлекаюсь от канавы, в которой я всегда пью гнилую кровь, выступившую из-под земли, и смотрю в Небо; и ЯестьЯ выхожу из стены, твёрдость и влажность которой жевал и сосал последние месяцы, и смотрю в Небо; и ЯестьЯ перестаю разрезать и есть чьё-то мясо, отпускаю сопротивляющуюся добычу и смотрю в Небо; и ЯестьЯ выпадаю из рук палача, терзающего мою плоть и жрущего её там же, на месте, и смотрю на Небо; и ЯестьЯ встаю и становлюсь спиной к окну, чтобы в жующем зеркале было видно Небо; и, наконец, ЯестьЯ перестаю бесконечно входить, и входить, и входить в свою собственную комнату к себе же самому, чтобы не дымить на себя глазами, иду к окнам и смотрю на Небо.
И вдруг ЯестьЯ открываюсь, открываюсь в небе, и смотрю вниз, на ЯестьЯ в домах, и ЯестьЯ в червях, и ЯестьЯ в лице-мостовых, и ЯестьЯ во всём, во всём, во всём, и всё сделано из ЯестьЯ, и я смотрю глубже, туда, за ЯестьЯ , за Разрозненность, чтобы увидеть, почему сигнал Единого стал Множеством, перестал быть Господином и стал рабами, и вот я поднимаю голову Гатоглепа и смотрю, и… И я вижу, вижу, ви
Золото – мой собственный свет, оплодотворяющий пустоту, но я так непрочен, что не удерживаю его в себе, не могу быть его господином. Видения становятся всё суетливее и порывистее, но они тянут из меня душу, будто это уже не моя душа, тянут из меня – меня, будто меня и вовсе более нет.
…и я вижу, что стою перед разбитым зеркалом, и зову сам себя, потерявшегося в отражениях. Парадоксально, но я не возвращаюсь.
Мрачный Город-лабиринт ЯестьЯ тает вокруг. Изглаживаются трещины на зеркальной глади – но остаются собственными тенями, не дающими множеству отражений слиться.
Змей с отвращением выплюнул свой хвост, и безумный бред самопоглощённости, сон будущности всесильным, но безумным рабом у эгоистичного себя, закончился.
Никаких отходов, выздоровлений, прихождений в себя, пробуждений – даже сама память о произошедшем исчезла мгновенно и без следа; не осталось ни тени за левым плечом, ни золота – только спокойное и пассивное понимание: скоро.
Изнанка наконец загорелась.
IV
Без предупреждений: ни впечатляющих знаков, ни вещих снов, ни даже какого-то особенного настроения. И даже обстановка неподходящая.
Глубокая ночь, снежная зима, на чистом небе почти круглая жёлтая луна. Идём втроём по Богудонии, очень старой рыбацкой деревушке, окружённой, но не поглощённой приморским городком. На деле это лишь означает обширный район жутких самостройных трущоб почти в центре городка, освещённых почти никак, непонятно на чём стоящих и чьими молитвами ещё продлевающих гниющее, но, чёрт возьми, тем более очаровательное существование; ищем проход к морю.
Наконец, находим в конце грязевой тропинки (а ведь кто-то обозначил её «пешеходной улицей»!) лестницу куда-то вниз, в темноту. Через пятнадцать метров неудобных, скользящих ступенек оказывается, что достаточно обернуться вправо – и вот, добыт прекрасный ночной вид на море до горизонта, матовую корку у берега, насыпь нетающих обломков, которой серый лёд отделён от чёрной воды.
Но мне почему-то открывается совсем другой вид. Нет, я вижу и море, и берег, и лёд – просто метрах в пятидесяти от меня всё это прекращается и сменяется провалом. Посреди играющих золотом света волн эта тьма, которой там просто не может быть, выглядит гигантской абсурдной норой, вырыть которую мог бы чудовищный антигерой какого-нибудь сюрреалистического мультфильма… Однако для жизни это будет, пожалуй, слишком пугающе и дико. Тем более что морской горизонт различим и слева, и справа, но вот впереди…
Сначала у меня волосы начинают шевелиться на голове, но тут же что-то происходит: откуда-то из самого центра мрака меня обдаёт волной тишины, увесистой, плотной тишины, – и гаснет всё, кроме сознания: волнение, мысли, сомнения, предположения. Какая-то часть меня автоматически контролирует происходящее, будто ситуация ей известна и привычна – как мои спутницы спокойно и весело комментируют нашу ночную вылазку, ничего не замечая, – но кроме автопилота во мне, кажется, больше ничего и нет. И я делаю несколько шагов к кромке воды.
Моя концентрация совершенна (но она не моя – тайна схватила мой разум железной хваткой в бархатной чёрной перчатке!), и у меня не проскакивает ни мысли, ни мнения насчёт разворачивающегося передо мной. Только сухое безальтернативное и бессловесное знание.
Это восход. В центре мрака восходит чёрное солнце. Сам он остаётся неизменным, просто самый его центр куда-то соскальзывает, будто червь выгрызает его изнутри. Чувство такое, будто заметил перед глазами слепую зону – и вдруг она стала расширяться, грозя поглотить весь кругозор.
И вот мрак коронован, но солнечная корона не видна. Она, если хотите, освещает всё вокруг – но не светом, конечно, и не «невидимым излучением», нет. Это радостно-спокойное, сияющее внутри себя небытие плотной тишины – его свет; освещённое им перестаёт быть. Но что будет вместо него?
Этого не-света становится всё больше. Мир плывёт куда-то вдаль, оставляя видными лишь мрачные врата из тьмы, тающей под напором невидимой пустоты, – и затем вдруг свет чёрного солнца высвечивает что-то… Что-то древнее, что-то былое, что-то когда-то родное и фундаментальное – и очень неприятное. Меня в этом во всём нет, я остался на морском берегу – сцена теперь уже будто созерцает сама себя, а мне потом память о ней достанется будто каким-то мошенническим трюком! И всё же я помню: перед тем как чёрное солнце закатилось в прошлый раз (непредставимое или вовсе не время назад) и возникло всё, что я знал как жизнь, произошло нечто ужасное.
Как описать это? Будто вечная блаженная тишина совершила суицид, сама себя вытошнив – неестественное, непотребное действо! Тошнота эта была бредом, натянутой и лживой галлюцинацией, и вот уже изначальный не-мир похоронен под её бредом! И эта галлюцинация слушала и повторяла себя, длилась, отражалась сама в себе, производила связность, создавая «наблюдение» за самое собой, а потом вдруг сама с собой заговорила…
…чувство такое, будто где-то в метре над моей головой что-то несильно взорвалось – затылок обдаёт жаром, сначала сверху вниз, потом почему-то снизу вверх, до макушки, – и вот я стою перед Азовским заливом. Живописно. Пустой берег, яркая луна, чёрная вода до горизонта.
Но чувствую я себя не лучше челюсти, отходящей от новокаина, – будто я был уже убит и даже зарыт, а теперь снова откопан и почему-то жив, хоть почти и не отдаю себе в этом отчёта. Но тишина отступает – будто плодородная почва уже наполняется сорняками мыслей, мнений, представлений, сомнений…
Нет, чёрное солнце не взошло, иначе галлюцинация забыла бы себя, иначе галлюцинация была бы прорвана, порвана – и в свете тишины забыта.
V
В реторту полного молчания не упало ни одно золотистое семечко – я ловлю его ловкими птичьими когтями у самого горлышка. Ловлю и следующее – они падают одно за другим, только успевай подхватывать.
Наш с тобой сновидец всё ещё спит – он бредит своими же пешими глазницами, заблудившимися в трещинах лопнувшего зеркала, в которое он заглянул и которое не выдержало взгляда. Он глядит на переливы границ и всё постигает суть тайны Скорби и радости, тайны Перемен и постоянства, тайны Самоотверженности и самости – многие, многие тайны сворачиваются в спирали его снов.
Но каждая познаётся; и с каждой распрямлённой-познанной спиралью – созревает золотое семечко, обещание новых снов. Сама суть этого золота – пробуждение от сна, но также и его изнанка, по которой змеится память и о пробуждении, и о бодрствовании; до этой изнанки я и не даю ему долететь – вот уже целый подол золота наловил.
Наловил – и несу к зеркалу. Запускаю когтистую птичью лапу в золотые семена, зачерпываю – и щедро рассыпаю по тысячам осколков. Из них на меня смотрит множество глаз, искажённых образов – то ли я их искажение, то ли они моё, то ли все мы чьё-то ещё, это, по сути, не важно: будь то я, ты или он – после посева и последней жатвы будет лишь Одно.
Я буду пить волшебное вино
из странного бредового сосуда,
потом проснусь, и окажусь средь поля,
под облаком, похожим на закат,
и вспомню всё тогда — единожды навечно,
и возвращаться некуда — конец
пути. Я вновь вернулся в детство,
Когда ещё я не сорвал
плода.
Автор: fr.Chmn
Иллюстрации: DeadWoodCult



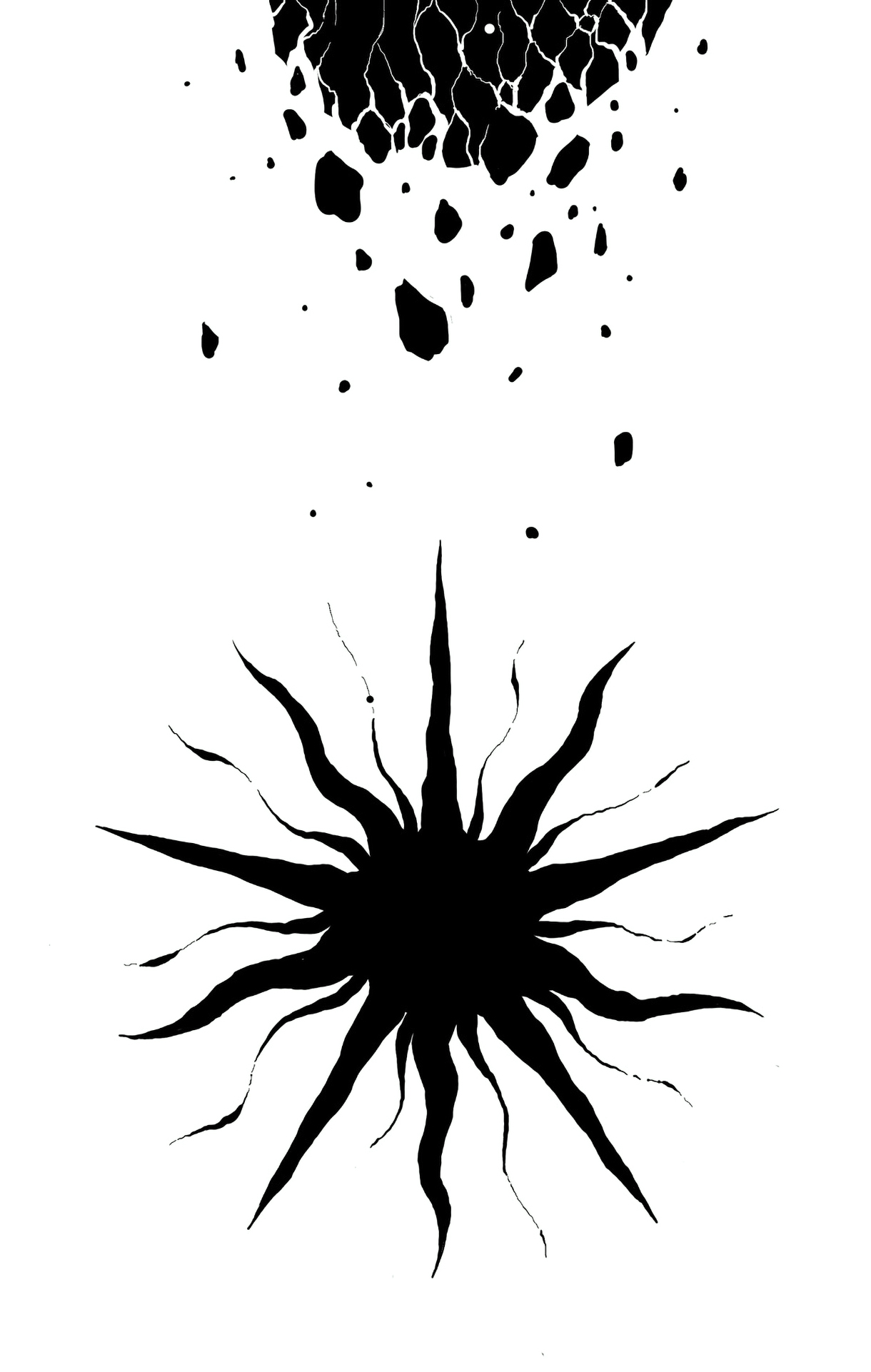


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: