Реквием по утопии
Utopus, that conquered it (whose name it still carries,
for Abraxas was its first name),
Utopia brought the rude and uncivilized inhabitants
into such a good government, and to that measure
of politeness, that they now far excel all the rest
of mankind.
Thomas More, «Utopia»
Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое –
братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга.
Поэтому и хорошие – не хороши, и плохие – не плохи,
и жизнь – не жизнь, и смерть не смерть.
Поэтому каждый распадётся до своей первоначальной основы.
Но те, кто выше мира, – не подвержены распаду, вечные.
Евангелие от Филиппа
I. DIFFERENCE THAT MAKES A DIFFERENCE
 Начать хочется с максимы антрополога и кибернетика Бейтсона «difference that makes a difference». Отражающаяся в нашем сознании часть вселенной, которую Грегори называл «креатурой», состоит из информации. «Небезразличное различие» – её первый бит, структурная единица разума, заключённая в ответе «да» или «нет» на простейшие вопросы, которые ставит перед нами восприятие. По мере развития логики, языка и культуры человечество прочно сковало своё сознание наборами дихотомий. Первой из них – связанной с возникновением, собственно, сознания – стало разделение на «субъект» и «объект», наблюдателя и наблюдаемое. Дальше, видимо, с появлением «Я‑концепции» к нему добавилось разделение на «Я» и «не‑Я». В последнее вошло представление о классе объектов, позволяющих заподозрить в них онтологическое родство с «Я», – тех, кого экзистенциалисты назвали «Другими». По мере развития абстрактного мышления все важные наблюдаемые или мыслимые аспекты мира были поделены на пары дополняющих друг друга понятий. Порядок и хаос, добро и зло, верх и низ, контроль и свобода, мужское и женское, анализ и синтез, любовь и ненависть – список можно продолжать бесконечно.
Начать хочется с максимы антрополога и кибернетика Бейтсона «difference that makes a difference». Отражающаяся в нашем сознании часть вселенной, которую Грегори называл «креатурой», состоит из информации. «Небезразличное различие» – её первый бит, структурная единица разума, заключённая в ответе «да» или «нет» на простейшие вопросы, которые ставит перед нами восприятие. По мере развития логики, языка и культуры человечество прочно сковало своё сознание наборами дихотомий. Первой из них – связанной с возникновением, собственно, сознания – стало разделение на «субъект» и «объект», наблюдателя и наблюдаемое. Дальше, видимо, с появлением «Я‑концепции» к нему добавилось разделение на «Я» и «не‑Я». В последнее вошло представление о классе объектов, позволяющих заподозрить в них онтологическое родство с «Я», – тех, кого экзистенциалисты назвали «Другими». По мере развития абстрактного мышления все важные наблюдаемые или мыслимые аспекты мира были поделены на пары дополняющих друг друга понятий. Порядок и хаос, добро и зло, верх и низ, контроль и свобода, мужское и женское, анализ и синтез, любовь и ненависть – список можно продолжать бесконечно.
На самом деле, говоря о возникновении древа дихотомий, сложно осмыслить, о каком именно первенстве или каких последовательностях здесь может идти речь. Работая со своими непосредственными ощущениями, мы все моделируем их с помощью разных концепций индивидуального и группового развития, выстраиваем топологию принципиально несоотносимых явлений, пытаемся как-то расположить их на временной перспективе – но всё это не более и не менее чем карты, на которых взгляд пытается обнаружить местоположение собственного источника. В этом смысле разделение на «субъект» и «объект» происходит как вспышка: и в филогенезе, и в онтогенезе, и как каббалистический цимцум – суть одна, пока в каждый момент времени существует то, что мы считаем собой и не-собой, мир находится в состоянии двойственности.
Однако в цивилизации, которой мы наследуем, бинарный способ описания мира взял своё начало в платоновской диалектике и был «узаконен» формальной логикой Аристотеля. Возникшие позже формы многозначной логики остались уделом математического и интуитивного знаний. В повседневную речь и трактаты по обустройству всего на свете они так и не вошли, за исключением экспериментальной литературы.
Любое действие рождает противодействие, на каждый тезис находится антитезис – особенно в сфере социального, где одни из самых базовых дихотомий («Я» и «не‑Я», «свои» и «чужие») во многом стали причиной возникновения сложных дискурсивных моделей, противопоставляющих группы людей по какому-то признаку. Угнетённые и угнетатели, цивилизованные люди и дикари, Восток и Запад, тупоконечники и остроконечники – языковые способы описания реальности, часто путаемые с самой реальностью.
XX век оставил много моделей, описывающих то, как соотносятся разные политические течения по ряду параметров. В числе первых можно назвать «политический спектр», из которого впоследствии выросли другие многоосные диаграммы: диаграмма Нолана, диаграмма Пурнеля, попытки противопоставления марксизма дарвинизму, абсолютизма – республиканству, технооптимизма – техноскепсису… Каждый «политический компас», создаваемый приверженцем той или иной идеологии, сталкивался с критикой со стороны апологетов других идеологий, которые имели другие определения права, свободы и власти. И всё же все они выросли из разделения на «левых» и «правых», которое, несмотря на мутации всех без исключения сфер жизни в XX веке, до сих пор имеет огромную власть над умами.
Рассевшиеся в своё время в разных частях парламента депутаты от фельян и якобинцев, скорее всего, сильно бы удивились, скажи им кто-то, что на следующие два с половиной века их пространственные предпочтения окажутся поднятыми на хоругвь силами, взявшимися утверждать свои чуть ли не метафизические различия в борьбе за переустройство мира. Об этих различиях и пойдёт речь ниже.
II. ОДИН ПАРЛАМЕНТ, ДВА СТУЛА И ТРИ ПРОБЛЕМЫ
Сразу нужно оговориться, что различия между конфликтующими идеологиями далеко не всегда коррелируют с личным опытом их приверженцев. Число людей, разделяющих в одинаковой степени все ценности даже самого близкого им политического течения, невелико. Больше того, одни и те же люди могут занимать левые позиции по одним вопросам и правые по другим. Просто в основу своей политической идентичности человек чаще всего кладёт ответы на те вопросы, которые являются наиболее значимыми для него лично. Так, ярый борец за права стигматизируемых групп может считать себя левым, несмотря на симпатии к рыночной экономике. А националист, ставящий во главу угла проблему мигрантов, с высокой вероятностью будет иметь правую идентичность, несмотря на возможные симпатии к плановой экономике. Также необходимость относить себя к одной из фракций левого или правого блока часто связана не столько с реальной поддержкой повестки этой фракции, сколько с личной выгодой, групповой солидарностью или эстетическими предпочтениями. Соответственно, жёсткое разделение на левый и правый блоки выглядит искусственным.
Тем не менее история показала, что между предпочтениями тех или иных ответов по разным вопросам общественного устройства есть определённая корреляция, стоящая за возникновением идеологических кластеров со своими аксиомами и языком. Да, устаревающая метафора разделения на «левых» и «правых» до определённой степени и по сей день работает как «самоисполняющееся пророчество». Да, из образования и СМИ люди выносят шаблоны мышления, которые приводят их в существующие десятилетиями, а то и веками политические сообщества, требующие навешивать на себя определённые ярлыки и передавать их следующим поколениям. Однако всё далеко не так просто. Идеи лингвистической относительности, в XX веке внёсшие колоссальный вклад в обсуждение проблем манипуляции массовым сознанием и пропаганды, успели утратить претензии на тотальность. Едва ли возможно такое, что идеологические различия возникают исключительно в языке, определяя опыт людей и заставляя их разбиваться на лагеря. Скорее, идеологи этих лагерей опираются на часто даже не осознаваемое, но от того не менее реальное отношение людей к определённым проблемам, за которым стоят базовые ценностные различия.
Давайте попробуем разобрать, почему, несмотря на явное снижение различительной силы, идея разделения на «левых» и «правых» продолжает господствовать в политологическом дискурсе кроме как в силу культурно-исторической инерции. Для этого рассмотрим подробно три группы проблем, отношение к каждой из которых можно охарактеризовать как “правое” или “левое”.
Сходства и различия между людьми
Люди больше похожи друг на друга, чем отличаются, – или больше отличаются, чем похожи? Все люди начинают сознательную жизнь в разных условиях. Наследственность, воспитание, благосостояние семьи, доступность общественных благ во многом определяют экономическое и личное благополучие человека на протяжении всей его жизни. При этом люди имеют схожую (пусть и усложняющуюся по мере развития общества) структуру потребностей: как минимум все нуждаются в безопасности и удовлетворении физических нужд – но не все имеют соответствующие возможности.
Первая линия членения общественной мысли проходит по отношению к двум этим фактам. Что важнее для общества: поддерживать сходство людей или их различие? Идеи уравнительной или распределительной справедливости, коммунитарной или либертарной экономики строятся с опорой на ответы на этот вопрос.
Правые делают акцент на приоритете различий между людьми. В общем виде их позиция состоит в том, что экономическое (а иногда и социальное) неравенство – лежит в самой природе вещей и принципиально неустранимо, жизнь – это лотерея, и каждый должен играть теми картами, которые были выданы ему при рождении. Для либертарных правых разница условий, в которых протекают жизни людей, не требует никакого вмешательства со стороны общества, кроме добровольной личной инициативы (например, благотворительности). Для более консервативных или авторитарных правых – разные формы неравенства поощряются как выгодные для господствующего класса или, в некоторых теориях, для всего общества.
Левые – ставят во главу угла сходство людей и считают, что общество должно в равной степени удовлетворять потребности всех своих членов, а распределение благ осуществлять с учётом идеи о всеобщем равенстве. С их точки зрения, идея естественности неравенства выгодна господствующим классам, а, следовательно, в ходе социального прогресса можно изменить такой порядок вещей.
Считается, что поддержка различий между разными группами людей исторически вела к разным формам дискриминации – по расовому, классовому, гендерному признакам, – идущим рука об руку с ксенофобией и шовинизмом. Одним из общих мест всех консервативных ультраправых идеологий является миф о возрождении общества путём его насильственного очищения от маргинализованных групп. Однако, согласно некоторым левым взглядам, это не противоречит и этике либертарных правых, которых они обвиняют в социал-дарвинизме, утверждая, что такой агент очищения, как государство, заменяется на рыночный механизм, в который часть общества неизбежно «не вписывается» и оказывается в бедственном положении.
Либертарианские возражения состоят в том, что они интерпретируют различия между людьми положительным, а не отрицательным образом и что только в отсутствие уравниловки каждый член общества может в полной мере реализовать себя, участвуя в свободной конкуренции. Также правые часто утверждают, что экономическое неравенство – не обязательно ведёт к возникновению иерархий в случае равенства всех членов общества перед законом. Левые спорят с этой точкой зрения, считая, что экономическое превосходство неизбежно даёт возможность для лоббирования изменения законов в своих интересах.
Отношение к проблеме свободы воли
Споры о свободе воли – о том, в какой степени выборы, совершаемые человеком, обусловлены внешними обстоятельствами, – уходят корнями в глубины тысячелетий. Однако ни философские построения, ни результаты нейробиологических исследований не дают ответа на вопрос, как прагматически учитывать их в общественной жизни.
«Правое» отношение к этому вопросу тяготеет к идее о том, что любую осознанную потребность и любой совершённый выбор общество по дефолту должно рассматривать как свободные. Идея твёрдости личной воли, преодолевающей все преграды, – один из сквозных мотивов правого дискурса; для ряда христианских консерваторов, например, она связана с тезисом о том, что свобода выбора дана каждому человеку Богом.
«Левое» отношение строится на мысли о том, что свобода воли человека в любом случае ограничена факторами среды и за многими выборами, которые он совершает, всегда стоят созданные привилегированными группами представления о норме, навязанные капиталистической системой потребности, «адаптивные предпочтения», «неаутентичные желания».
Следствием является разница во взглядах на отношение к свободе заключения сделок и личной ответственности каждого за свою жизнь. Как оценить степень добровольности и осознанности, с которыми человек вступает в договорные отношения (экономические, политические, межличностные)? Должны ли со стороны общества налагаться ограничения на сделки определённых типов?
«Правая» точка зрения отрицает необходимость ограничений. Согласно ей, общество не должно мешать своим членам свободно вступать в отношения, целью которых является удовлетворение потребностей друг друга, – независимо от того, одинаково ли эти отношения выгодны для обеих сторон. Речь идёт о свободном рынке, участники которого в силу фундаментальных различий между людьми имеют разные стартовые возможности, которые никак не должны уравновешиваться обществом.
«Левая» точка зрения поддерживает некоторые ограничения. Согласно ей, критическая разница стартовых возможностей обусловлена в первую очередь иерархическими отношениями. Соответственно, члены привилегированных групп имеют больше возможностей для неявного принуждения членов непривилегированных групп к участию в сделках на невыгодных условиях. Что, в качестве системного эффекта, ведёт к укреплению иерархии и неравенства. Кроме того, привилегированные группы имеют больше ресурсов для того, чтобы именно их потребности были лучше отражены в культуре и легитимированы обществом.
Возражение «справа» здесь, как правило, состоит в том, что запрет на какие-то сделки ведёт к возникновению теневых рынков, что повышает риски для всех их участников.
«Левый» ответ на это чаще всего апеллирует к необходимости изменения структуры потребностей в обществе, а запрет – выступает одним из инструментов, работающих здесь-и-сейчас там, где не справляется просвещение (называемое их оппонентами пропагандой чего-нибудь нетрадиционного).
При этом на личном уровне польза идеи внешней детерминации своих выборов не очевидна. Если сводить всё к философской проблеме, то «самурай, который верит в свободу воли, неотличим от самурая, не верящего в свободу воли». Человек вообще состоит из большого количества биологических и психических систем, которые постоянно принимают миллионы решений, независимо от того, как относится к проблеме свободы воли та их верхушка айсберга, которая вообще способна этим вопросом задаться.
Тем не менее тщательный самоанализ и сопоставление фактов до определённой степени позволяют сбросить ярмо многих потребностей, связанных, например, с гендерными или классовыми стереотипами, начать иначе взаимодействовать с обществом. Возможно – даже найти ответ на вопрос, что является источником собственных «левых» или «правых» взглядов, тяги к реформаторству или консерватизму.
Здесь сложно удержаться от того, чтобы привести цитату из одной из работ Ноама Хомского:
При капитализме я порабощён, именно когда «чувствую себя свободным», это чувство является самой формой моего рабства, тогда как в освободительном процессе я свободен, когда «чувствую себя рабом», то есть само чувство порабощённости уже свидетельствует о том, что в основании моей субъективности я свободен: только с позиции свободного субъекта я могу увидеть и осознать всё ничтожество своего рабского положения. Таким образом, мы получаем два вида ленты Мёбиуса: если мы следуем капиталистической свободе до конца, она превращается в предельную форму рабства, но если мы хотим вырваться из капиталистического добровольного рабства, наше притязание на свободу снова должно принять форму её противоположности, добровольного служения делу.
Отношение к собственности
В самом широком смысле собственность можно определить как способ присвоения некоего объекта субъектом, включающий пакет опций «владение», «использование» и «распоряжение», легитимированный обществом. При этом присвоение – не всегда предполагает активность субъекта. Собственность можно получить в дар или унаследовать. Речь идёт не только о неодушевлённых предметах или их символах, но и о собственном теле и некоторых аспектах психики, которые признаваемый дееспособным человек получает от родителей и сформировавшей его среды.
Психоанализ и психология развития, описывающие формирование у ребёнка сознания, оперируют понятием «переходного объекта» – промежуточной области опыта между «Я» и «не‑Я», в которую ребёнок может включать, например, соску или экскременты. По мере взросления эти «строительные леса Эго» убираются, человеческая психика калибруется таким образом, чтобы однозначно определять свои границы и отделять себя от мира. В процессе социализации, помимо представлений о «Я» и «не‑Я», человек усваивает то, что «не‑Я» делится в свою очередь на «моё» и «не-моё». Тем не менее сознанию остаются доступны состояния, в которых эти границы могут сдвигаться или и вовсе – стираться.
Из этой модели можно почерпнуть пищу для размышлений о двух полярных отношениях к собственности, где «справа» собственностью будут являться все объекты вселенной, а «слева» – ни один из них, поскольку само это понятие не будет иметь никакого смысла.
«Правый» способ мировосприятия строится на необходимости жёстче разграничивать «я» и «моё». А также «моё» и «не-моё». Эта дискретность позволяет описывать все явления наблюдаемого мира через призму их эксклюзивной связи с собой или другими субъектами: всё на свете кому-то принадлежит (или не принадлежит, но это лишь вопрос времени). Такая упорядоченность может служить фундаментом для приверженности рыночным ценностям: легче мыслить в категории сделок, когда отчётливо понимаешь, чем конкретно и между кем происходит обмен.
«Левому» восприятию чужда такая дискретность. Наблюдаемый мир похож больше на градиент перетекающих друг в друга явлений, многие из которых переживаются как «переходный объект»: нечто не является моим, но оно не является и не-моим, поскольку имеет запутанные связи со всеми, кто его воспринимает. Соответственно, оно не может рассматриваться как объект чьей бы-то ни было собственности. По мере удаления таких явлений от субъекта – за пределы психики, тела, предметов первой необходимости – их статус становится всё более размытым. Средства производства, природные ресурсы, электронные копии текстов, идеи – могут ли они принадлежать кому-то конкретному или они принадлежат то ли всем, то ли никому?
В этом размышлении хочется зайти ещё дальше и провести метафизические параллели. Так, «правый» взгляд можно охарактеризовать как более дуальный, тяготеющий к разделению на наблюдателя и наблюдаемое, которое может свободно фрагментироваться и присваиваться. А «левый», соответственно, – как недвойственный, отрицающий метафизические границы между собой и всеми наблюдаемыми объектами, что также может объяснить больший интерес к сходствам между людьми, нежели к их различиям.
III. ПРАКТИКА ИГР
Несмотря на распространённость мнения, согласно которому разница между «левыми» и «правыми» является разницей гребцов, прикованных к разным бортам одной галеры, значительная часть этого дискурса посвящена тому, какая из сторон больше тяготеет к насильственным практикам, подавлению личности и контролю, ассоциируемому преимущественно с консерватизмом и этатизмом.
Исторически, со времён Французской революции, консерваторами считались «правые» политические течения, поскольку именно они поддерживали существовавший на тот момент общественный уклад, построенный на сословном неравенстве. Прогрессивные «левые» настаивали на сломе этого уклада, на устранении неравенства между разными группами людей: кастами, классами, расами, полами и т. д. Соответственно, в дальнейшем к «правым» политическим течениям в основном относили те, которые поддерживали актуальное – по факту всегда иерархическое – состояние мира или же искали модели идеального общества в прошлом (см. «миф о Золотом веке»). Источником иерархии могли выступать как представления о «естественном порядке», так и Традиция, религиозные предписания или даже научные теории, а её главным агентом – институт государства. Однако впоследствии и многие «левые» течения продемонстрировали приверженность идеям сильного государства и ограничения не только экономических, но и личных свобод для замены одних господствующих классов другими. «Консерватизм – явление сложное. Иные консерваторы только из консерватизма именуют себя коммунистами», как сказал в своё время Габриэль Лауб. «Модель подковы», изображающая политический континуум таким образом, чтобы «левый» и «правый» полюса отстояли недалеко друг от друга, появилась не на пустом месте, равно как и отечественный термин «красно-коричневые», фактически приравнивающий ультраправых к ультралевым.
Однако глубинное сходство здесь заключается даже не в поддержке иерархии как таковой, а в отношении к появлению в обществе и распределению между его членами каких бы то ни было благ, ресурсов. В центре наиболее радикальных консервативных идей находится мир, в котором ещё не появилась идея прогресса – процесса увеличения суммы общественных благ в каждом следующем поколении. Количество ресурсов в таких теориях всегда конечно, консервативный взгляд – это взгляд на вселенную как игру с нулевой суммой. Единственный способ в ней получить блага для себя – отобрать у кого-то ещё. В качестве налогов, если речь идёт о своём обществе, и в качестве военных трофеев, если речь идёт о чужом. Так вышло, что в ходе развития цивилизации наиболее эффективным инструментом отъёма и перераспределения для каждого общества стал институт государства.
С появлением идеи прогресса чаша весов качнулась в пользу представлений о вселенной как игре, в которой общая сумма благ может быть увеличена – благодаря новым технологиям и новым социальным институтам. Дальнейшая часть истории – борьба не столько между левым и правым крылом, сколько между идеями этатизма и анархизма.
Кредо этатизма заключается в том, что для наиболее эффективного создания и распределения благ (с поправкой на «левые» или «правые» представления о неравенстве и свободе рынка) по-прежнему – а то и больше – требуется агент принуждения в виде института государства. Прогосударственное отношение к человеческой природе можно выразить тезисом «человек по природе зол» – а следовательно, нуждается в контроле, чтобы общество не погрузилось в состояние «войны всех со всеми» и не вернулось в каменный век.
Анархическая позиция состоит в том, что, как минимум на данном историческом этапе, государство является основным источником насилия и препятствует эффективному созданию и распределению благ в обществе. Левые анархисты при этом делают акцент на общественном благе и том, что государство мешает свободной кооперации, правые – на индивидуальном благе и препонах, которые чинятся свободной конкуренции. В представлениях анархистов «человек по природе добр», в том смысле, что способен создавать блага, используя «договорные» горизонтальные, а не «властные» вертикальные механизмы. Некоторые апологеты свободного общества утверждают, что некоторые правые методы в долгосрочной перспективе могут привести к достижению левых целей, и наоборот.
Важным здесь является то, что в ходе исторического процесса институты и механизмы принуждения могут сменять друг друга, например, место государств прошлого могут занять транснациональные корпорации, а отмирающий спектр запретительных законов – смениться законами о защите частной собственности (представим киберпанковскую страшилку, в которой и солнце, и воздух, и вода принадлежат узкому кругу собственников). Если сильно упрощать, на этом и строится критика неолиберализма со стороны как новых левых, так и любителей всевозможных вождей: любое государство формально является просто административным аппаратом, управляющим коллективной собственностью членов общества, разница между тоталитарным и демократическим строем состоит в основном в степенях свободы и инструментах влияния акционеров на администрацию. Капиталистическая антиутопия же описывает общество, в котором у значительной части людей может не быть ни собственности, ни прав, кроме возможности участия в рыночном механизме, что роднит её с удельными владениями, предшествовавшими возникновению национальных государств, – отсюда и весь дискурс про новое Средневековье и технократический децентрализованный неофеодализм, заставляющий задуматься о цикличности истории.
IV. К НЕЙРОПОЛИТИЧЕСКОЙ ГИГИЕНЕ
Основа любой идеологии – фундаментальные ценности и метафизические построения, которые не могут быть воплощены посредством общественного устройства во всей своей полноте. Любая сколь угодно подробная модель не может учесть все факторы реального мира. Как результат, конфликтующие идеологии имеют подозрительно схожие воплощения, равноудалённые от своих концепций.
Одной из важных примет XX века стало появление утопий, поставивших во главу угла изобретение новых людей и новых общественных институтов. И полностью отказавшихся от беспристрастного изучения тех, которые реально существовали. Отголоски такой подмены можно найти практически во всех дошедших до нас идеологиях, где обрывочные знания о человеческой природе натягиваются на чистую идею, а не наоборот. Их авторы – часто философы, мистики и художники – в своих проектах идеальных миров неосознанно выдавали себя за всё человечество, что неизбежно делало их прожекты либо неосуществимыми, либо бесчеловечными, либо и то и другое вместе. Понадобилось две мировые войны, чтобы человечество сделало определённые выводы.
XXI век дал трибуну каждому желающему. Участники любых «кухонных» или сетевых споров об обустройстве Кеномы, человечества или хотя бы России получили в наследство от вымерших утопистов прошлого привычку брать на себя ответственность за большие группы людей, руководствуясь столь же ограниченными знаниями о мире. Картина мира каждого из нас неполна и может лишь приблизительно экстраполироваться даже на тех людей, которые на уровне деклараций вроде бы на нас похожи.
Вступая в такие споры, следует держать в голове, что пространство коммуникации будет кишеть логическими уловками, смутными ассоциациями, когнитивными искажениями, эмоциями, инерцией личного опыта, ссылками на абстракции из чужих понятийных аппаратов и разными трактовками одних и тех же понятий. Даже двум хорошо знающим друг друга людям, действительно заинтересованным во взаимопонимании, часто не хватает внутренних Коржибского с Бейтсоном, чтобы понять, о чём именно они спорят и правильно ли задают вопросы. Случаи, когда им удаётся создать новую модель, которая действительно устраивает обоих, а не является просто символическим способом закончить коммуникацию без ссоры, – и вовсе могут быть приравнены к чуду.
Основная проблема споров об идеологиях – в принципиальной невозможности каждой из сторон доказать правоту, кроме как в узких рамках конкретной этики или экономической теории. Шаг влево, шаг вправо – и всё начинает упираться в иррациональные постулаты, разную аксиоматику, фундаментальные ценности. Но, в отличие от, например, художественных вкусов, идеологии по умолчанию не могут быть личными. Подразумевается, что их претворение в жизнь возможно лишь в случае следования им большого количества людей или общества целиком. Больше того, на практике большинство кухонно-сетевых рассуждений о желаемом устройстве общества строятся как фантазии о том, как должны жить Другие, т. е. о том, как социальная реальность должна быть организована вокруг приверженца идеологии, чтобы отвечать его ценностям без его собственной активности.
Поскольку все люди в обществе так или иначе связаны друг с другом и участвуют в распределении общественных благ, любое идеологическое высказывание воспринимается человеком либо как поддержка собственных ценностей, либо как покушение на них. «Некто посылает сигнал, что все, в том числе и я, должны жить в соответствии с его ценностями, а не моими». Вряд ли нужно объяснять, почему это является почвой для конфликта и делает любые реформаторские споры крайне острыми и невротизированными. Любой проект идеального мира – хоть иерархического, хоть анархистского – является суммой решений, которые его архитектор готов принимать за всех, не спросив их мнения. Естественно, это воспринимается как насилие (пусть и символическое) и встречает сопротивление. Любая сила, сопротивляющаяся любой утопии (даже если она сама не прочь построить свою утопию), будет переживать это как борьбу за свободу.
Страх каждого перед Другими как угрозой своему Я часто ведёт к стремлению «расчеловечить» оппонента, отказав ему в свободной воле и возможности иметь собственные ценности. В спорах, где эмпатия снижена (например, сетевых), оппонент часто воспринимается как «зомби», жертва неведения, пропаганды или даже её проплаченное щупальце. Человек редко подвергает рефлексии собственные спусковые механизмы, но при этом живо интересуется, чем детерминировано поведение других людей. Транслируемая идея как продукт внешней власти, а не личного ценностного фундамента, рассматривается лишь применительно к Другим.
Если не считать членов политических организаций и активистов, лишь редкий кухонный социалист или либертарианец, фашист или анархист может сказать, что характеризует лично его как социалиста или либертарианца, фашиста или анархиста в повседневности. Мало кто может предположить, как практическое воплощение поддерживаемой идеологии отразилось бы на той жизни, которую он ведёт. Больше того, нередки случаи, когда люди с разной степенью осознанности высказываются в поддержку мира, в котором для них самих не оказалось бы места, руководствуясь чувством стыда или непринятия себя.
Мотивы участия в спорах о переустройстве мира разнообразны и зачастую не осознаются даже самими участниками. В первом приближении эти мотивы хочется собрать в три группы.
Первая: канализация эмоций (классическое «по дороге домой обрызгала машина – нужно сообщить всем, что «вот до чего страну довели!»») или просто коммуникация ради коммуникации, троллинг, способ познакомиться с кем-то и т. д. – ситуации ролевого отыгрыша.
Вторая: захват дискурсного поля приверженцами конкретных взглядов, популяризация своего языка, привлечение внимания к своим проблемам, не особо нуждающееся в понимании точки зрения оппонентов (здесь работает принцип, что «чёрный пиар – это тоже пиар»).
Третья: стремление понять что-то новое, получить данные для развития собственных взглядов, возможно даже скорректировать их – гностическая функция, поиск нового знания.
Хотя во многих случаях участники споров руководствуются всеми ими одновременно, рискну сформулировать некоторые рекомендации для наиболее экологичного ведения дискуссий лишь с учётом последнего мотива.
Модельное мышление. Не следует путать дескриптивную, описательную часть любой идеологии с реальностью, карту – с территорией, метафору – с вещью. Любая картина мира – просто модель, способ описания произвольного набора феноменов. Так, «патриархат», «расовая теория», «Pax Americana» и т. д. – лишь частные случаи описания некоторых взаимодействий в социальных системах. Разные модели удобны для отстаивания разных ценностей, поскольку отличаются избирательностью в отношении описываемых феноменов.
Прояснение терминов и уровни абстракций. Вступая в дискуссию, следует как можно быстрее выяснить, одинаково ли вы понимаете смысл терминов, которые участвуют в разговоре: если оппонент использует понятия вроде «свободы» или «ответственности» в эмоционально-поэтическом смысле, а вы рассуждаете с позиций гражданского кодекса – необходимо привести терминологию к общему знаменателю. Также желательно вести разговор на одном уровне абстракций: для достижения взаимопонимания чаще всего бесполезно парировать чей-то личный опыт статистикой, статистику – выдержками из философских текстов и т. д.
Доказательность. Определившись с предметом спора, следует договориться, что могло бы являться критерием правоты той или иной стороны и может ли такой критерий вообще быть найден. В случае утвердительного ответа нужно быть готовым углубиться в конкретные теории, результаты исследований, статистику, философию и методологию науки. И, скорее всего, определить предел, до которого вы готовы погрузиться в проблему, а также скажется ли как-то на вашей точке зрения сам факт нежелания за этот предел заступать. В реальности же, скорее всего, эти поиски упрутся в парадигмальные различия, стереть которые не под силу даже лучшим умам человечества. После этого останется лишь осознать себя настоящим приверженцем одной из политических теорий или экономических школ.
Поиск причин в разных областях знания. Как правило, разрешить противоречия между разными классическими школами и традициями и ответить, кто прав, невозможно на языке той области знания, к которой они относятся. Однако можно попытаться объяснить себе сами причины возникновения этих противоречий, воспользовавшись призмами других областей знания. Например, антропологии, нейрофизиологии, психологии – всех дисциплин, которые могли бы что-то предположить о причинах возникновения самых базовых ценностных аксиом, которые не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты научным методом. Результатом, скорее всего, станет некая шизотерическая система, однако, если вы уже дошли до таких глубин, польза от неё, скорее всего, перевесит вред. Нам всем нужно на что-то опираться, чтобы продолжать мыслить.
Догматизм и ментализация. Хорошим бонусом в любом споре является понимание того, насколько для оппонента важна та позиция, которую он занимает. Ещё лучшим – то, насколько он догматичен в своих воззрениях, не путает ли свой способ описания мира с самим миром и насколько всерьёз допускает возможность существования других описаний. Иными словами, насколько визави принимает то, о чём говорит, за некую объективную истину? Во многих случаях схожая гибкость в отношении своих взглядов может быть куда важнее для продуктивного диалога, чем сходство, собственно, самих взглядов: твердолобые соратники бывают куда более утомительными собеседниками, чем рефлексирующие оппоненты. При этом важно не забывать, что уверенность в гибкости своего ума иной раз может сыграть с вами шутку. Так, при столкновении носителей разных мировоззрений часто каждый из них хочет видеть собеседника большим догматиком, чем себя самого. Мысль может идти так: «Я могу поставить себя на его место и взглянуть на свою картину мира его глазами. Если он не может сделать того же самого в отношении меня, из этого следует, что моя картина мира гибче, эвристичнее и, следовательно, вернее, потому что как бы включает в себя и его картину тоже». Однако такое предположение в отношении собеседника вполне может оказаться ошибочным. А прав, как всегда, остаётся лишь хитрый араб, умчавшийся в ад с лозунгом «Nothing is true everything is permitted».
Позиция «над борьбой». Несколько слов нужно сказать и о позиции «над борьбой», которая может иметь как нигилистический («оба хуже»), так и миротворческий («у каждого своя правда») окрас. То, что формально такое высказывание находится на метауровне по отношению к конфликтующим точкам зрения, не делает его автоматически более взвешенным или глубоким. Сам факт того, что кто-то занимает позицию «над борьбой», ничего не говорит о степени его информированности о проблеме и понимании аргументов обеих сторон. Не исключено, что как раз именно спорящие находятся на одной волне, а «рассудительный посторонний» хочет самоутвердиться, выставив их радикалами, а себя, под шумок, носителем лучшего понимания проблемы. Усреднённый вариант не всегда является компромиссным.
V. ОТВЕТ «МУ». А ПОТОМ?
«Радикал – это человек, который не только знает все ответы, но и трудится над созданием новых вопросов». Несмотря на болезненность и крайне низкий КПД идеологических споров, человечество закаляется в этих словесных баталиях, пытаясь вырваться за пределы существующих дискурсивных решёток. Если воспринимать их дихотомии и парадоксы как коаны, размышления на темы «устройства всего» могут увеличивать гибкость ума и расширять актуальный туннель реальности. А могут и наоборот – сужать.
Во многом это зависит от выбора, на какие вопросы общественного устройства всё-таки может быть дан ответ, который вывел бы человечество на следующую ступень развития. А на какие – лучше искать ответ «Му» и не участвовать в этих играх. Отказ делать выбор между двумя стульями не следует путать ни с «центристской» позицией, ни с попыткой усидеть на обоих. Больше того – у каждого этот отказ свой, непохожий на остальные и коренится скорее в интуиции, лиминальных переживаниях, «кое-чём ещё», нежели в рассудочной деятельности.
Очень часто такие переживания сопровождаются мыслью о том, что подобное испытывают или могут испытать все люди. После чего подобие начинает путаться с тождеством, появляются тезисы вроде «все религии об одном и том же», любые ответы на любые вопросы объявляются в глубине своей одинаковыми, а любые различия – ловушками языкового ума. Однако логика повседневности и пристальный анализ подобных переживаний, осуществляемый средствами этого языкового ума, зачастую вновь разводят получивших свои откровения по разным углам ринга. Возникают новые конфликтующие учения и представления о мироустройстве. Можно утверждать, что причина возникновения всех полярностей лежит в языке, который в силу своего устройства не может выразить недвойственность лиминального опыта. Можно, напротив, считать, что мировоззренческие дихотомии существуют и за рамками языка. Можно спорить с витгенштейновской максимой и продолжать пытаться говорить о том, о чём следует молчать.
В стремлении принести что-то в Мiр можно бесконечно биться головой о язык с одной стороны экрана между нашим сознанием и всем остальным – и стать шизотериком от французской философии. А можно – с обратной: биться о собственные трансцедентальные переживания, став шизотериком от оккультизма. Умение комбинировать красивые слова без стоящих за ними переживаний может сделать вас респектабельным собеседником, однако сами для себя вы останетесь «китайской комнатой», которая не понимает глубинного, доязыкового смысла того, о чём говорит. Богатый опыт лиминальных переживаний и игнорирование работы над своим языковым аппаратом оставит вас для окружающих «чёрным ящиком» – в лучшем случае они согласятся признать за вами определённые «силы», однако не смогут получить от коммуникации с вами никакой предсказуемой пользы.
Где-то в слиянии этих двух крайностей и лежит откровение, гнозис, который может стать доступным всем, кто захочет его воспринять. Это слияние – не вполне компромисс, а нечто помимо работы в обоих направлениях. Речь идёт о буквальном прорыве через бреши, которые в этом экране всё же можно пробить – например, с помощью магического искусства. Если вы хотите не самоустраниться из Мiра, а менять его так, как вам нравится, – пытайтесь нащупывать эти бреши. Сделайте магическим искусством саму свою жизнь.
После этого, когда окажется, что мир людей всё ещё опирается на принципиально несовместимые аксиомы, для которых нельзя найти общего знаменателя, кроме абстрактных и удалённых от практики («игры самопроявленных энергий», «Космическая игра»), неизбежно встанет вопрос: а что дальше?
Рискну предположить, что в вопросах, касающихся общественного устройства (т. е. затрагивающих всех, а не только собственный духовный путь), наиболее конструктивным для носителей антагонистических идей будет оставить друг друга в покое – хотя бы в пространстве полемики. Всё равно ни одна из утопий или антиутопий никогда не будет воплощена во всей полноте, а все трагедии и неврозы разыгрываются здесь не в сданном под ключ здании, а на стройплощадках. А потом, набив ещё 93 тысячи шишек, приступить, средствами ли кооперации или конкуренции, к погружению мира в то состояние, где они смогли бы никогда больше не мешать друг другу, а при желании и вовсе – не пересекаться.
Это состояние само по себе абстрактно в достаточной мере, чтобы его трудно было вообразить: что это, сорокинская «Теллурия», моррисоновский «Суперконтекст»?.. Не является ли желание такого мира – желанием остановить любое развитие, эволюцию, зиждущуюся на бесконечных столкновениях всевозможных пакетов информации? Не отрицает ли он – в пределе – необходимость коммуникации между людьми как таковой, стремления к разным формам коллективного сознания и всеединства, на которых строится несчётное число духовных учений? Вряд ли на эти вопросы сейчас можно дать какой-то ответ.
Очевидно, что сам этот подход звучит крайне индивидуалистично и в пределе предлагает каждой осознавшей себя сущности самостоятельно обустраивать свою реальность, разбираясь со своими желаниями, мотивами, фобиями. Деятельностное сострадание в отношении тех, кто в силу каких-то причин продолжит существовать в своём личном аду, может здесь критически трактоваться либо как насилие, стремление «причинять добро», либо как один из аспектов собственного ада. С другой стороны – интерпретировать так можно лишь ложное сострадание, заменяющее коммуникацию; стремление спасти всех, кто об этом никогда не просил; очередную подмену самим собой всего мира. Истинное же сострадание может служить важной – впрочем, одной из многих – тропок, на которой станет возможна встреча разных, непохожих друг на друга миров, у которых не будет причин разрушать друг друга. Вселенная, в которой максима «начать с себя» перестанет звучать издевательством.
Одно из свойств Чёрной Железной Тюрьмы, в которой мы обитаем, заключается в «когнитивной закрытости»: мы не можем познать природу своего сознания так, чтобы это знание полностью нас утолило. У нас есть идея своей конечности – но даже её смысл непознаваем. Наша память неизбежно оказывается приблизительной, а то и ложной. Сам мир вокруг, каким мы его воспринимаем, уже не существует к тому моменту, как сигнал о нём успевает обработаться мозгом. Мы летим по направлению к пропасти, глядя в зеркало заднего вида, на машине, устройство которой нам неподвластно. Всё это затрудняет любую работу по самоосвобождению или совершенствованию мира вокруг, заставляя иной раз чувствовать себя узниками «космического концлагеря».
Единственный вопрос, которым при таком положении дел имеет смысл задаваться, глядя на строительство любой утопии или антиутопии: будет ли она помогать или препятствовать индивидуальному освобождению – освобождению каждого конкретного человека? Ответ на этот вопрос не всегда очевиден, особенно если смотреть не на интерфейс в виде лозунгов, а на технологическую начинку. Здесь снова оживает образ борьбы нескольких сил за имманентизацию Эсхатона, которые, раскачивая маятники дихотомий разного порядка, заставляют нас гадать, станут ли, например, технологии VR средствами для «дерзости поиска иных, своих миров» и раскрытия творческого потенциала каждого – или пыточными камерами, а все мутации компьютерных сетей будут помогать находить единомышленников для строительства этих миров – или делать их уязвимыми для отдаляющих от освобождения сил Контроля? При этом описать феноменологию этого освобождения – невозможно. Вероятно, каждый из нас может лишь украдкой, полуслучайно, втайне для себя указывать ближним на секретные калитки к анфиладам предельных переживаний – вспомните хотя бы игру «Незримые» из одноимённого графического романа. В каком-то смысле мы и так живём в ней, но это не мешает создавать следующую игру внутри игры, повышая ставки. Не исключено, что по лестнице этой рекурсии осуществляется бесконечное эволюционное приближение к освобождению каждого желающего из оков пресловутой Чёрной Железной Тюрьмы.
И сейчас мне кажется, что сама вера в саму возможность этого Великого Делания и устремления к нему – пусть иной раз вслепую, на ощупь, кругами – даже в среднесрочной перспективе куда продуктивнее и веселее, чем тотальные нигилизм и цинизм. Да, в каком-то смысле всё, озвученное выше, – тоже заявка на плацдарм для утопии, однако я верю, что строительство этой утопии как нельзя лучше может быть охарактеризовано словами одного андрогина «thee process is thee produckt».
На этой планете нас уже без малого 8 миллиардов. И, независимо ни от чего, нам надо не уничтожить друг друга – и не пожалеть об этом.
Автор: Insect Buddha
Иллюстрации: Жирфрокс
[Скачать статью в .pdf: часть первая и часть вторая]

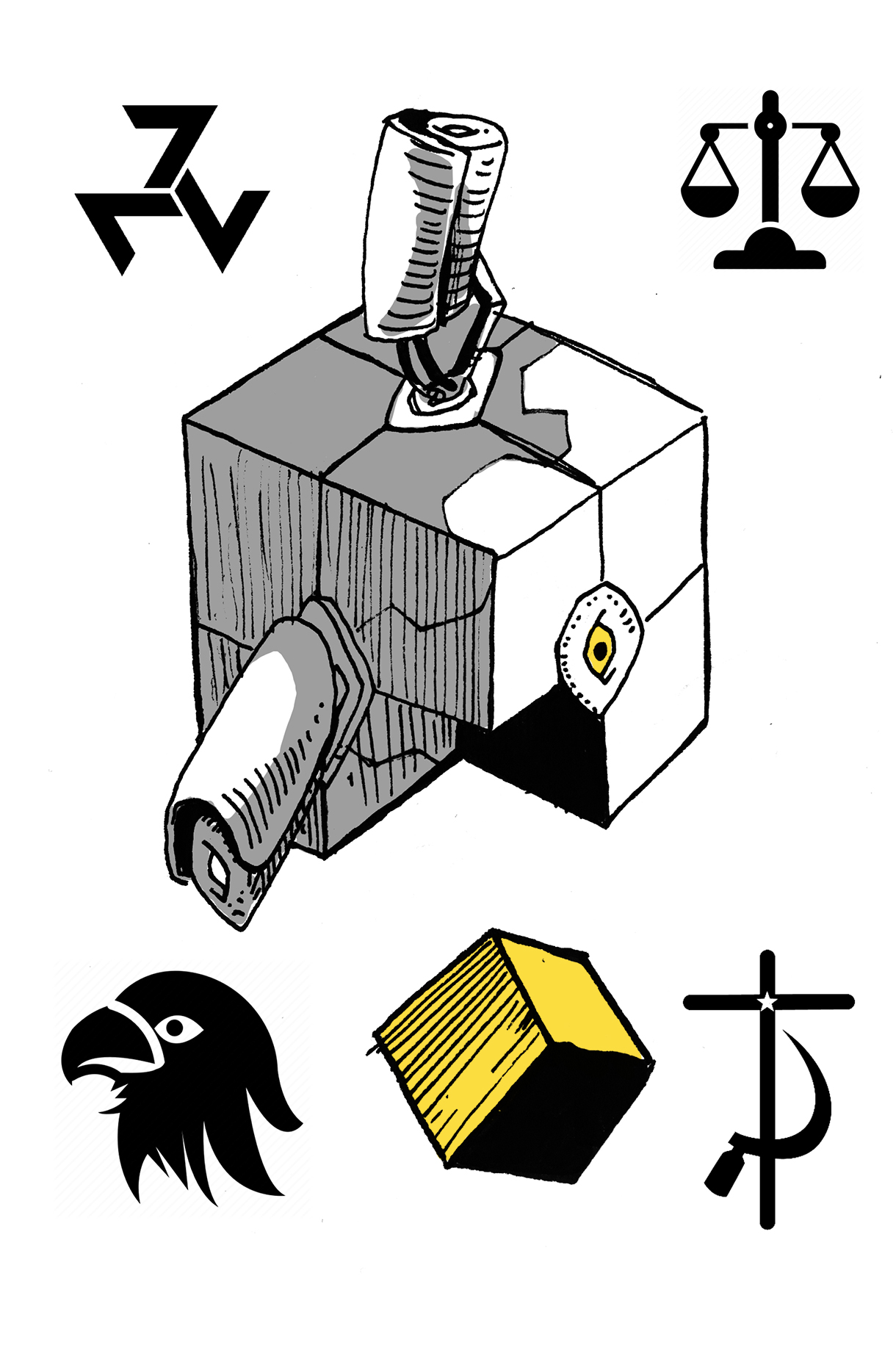
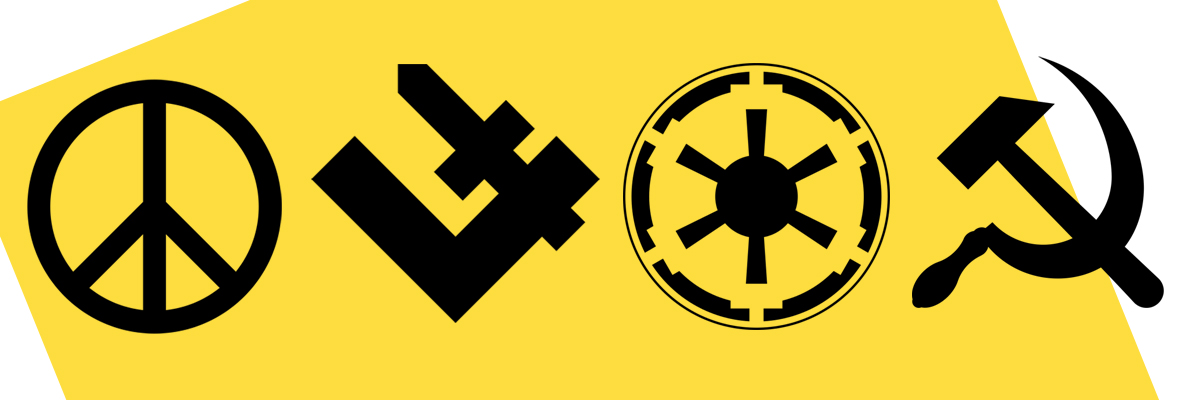
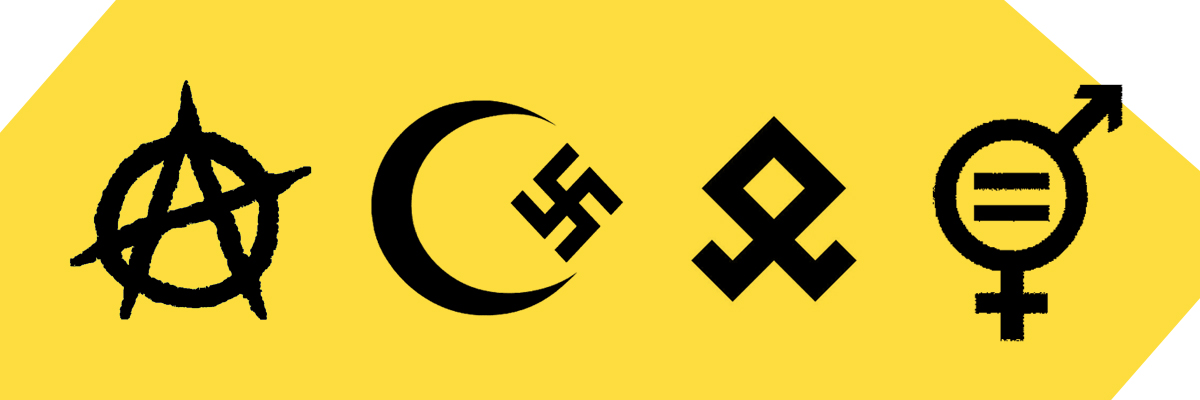
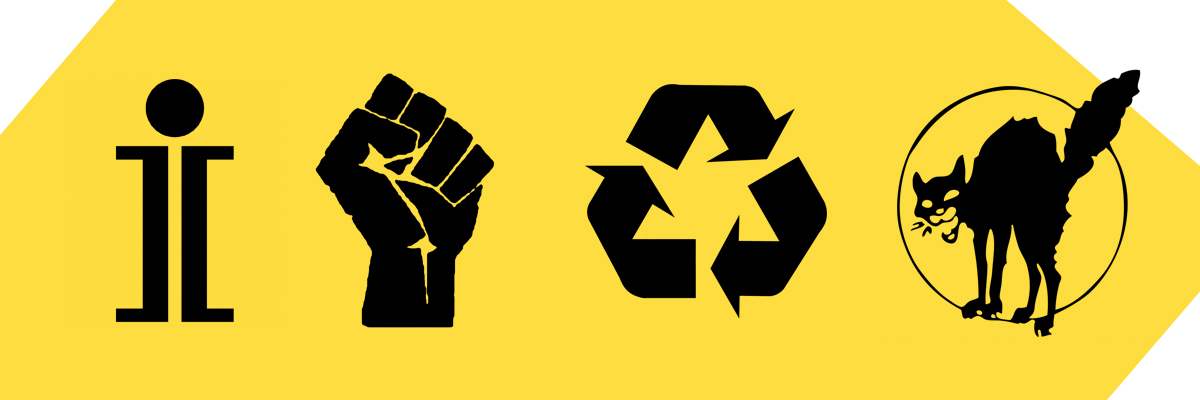


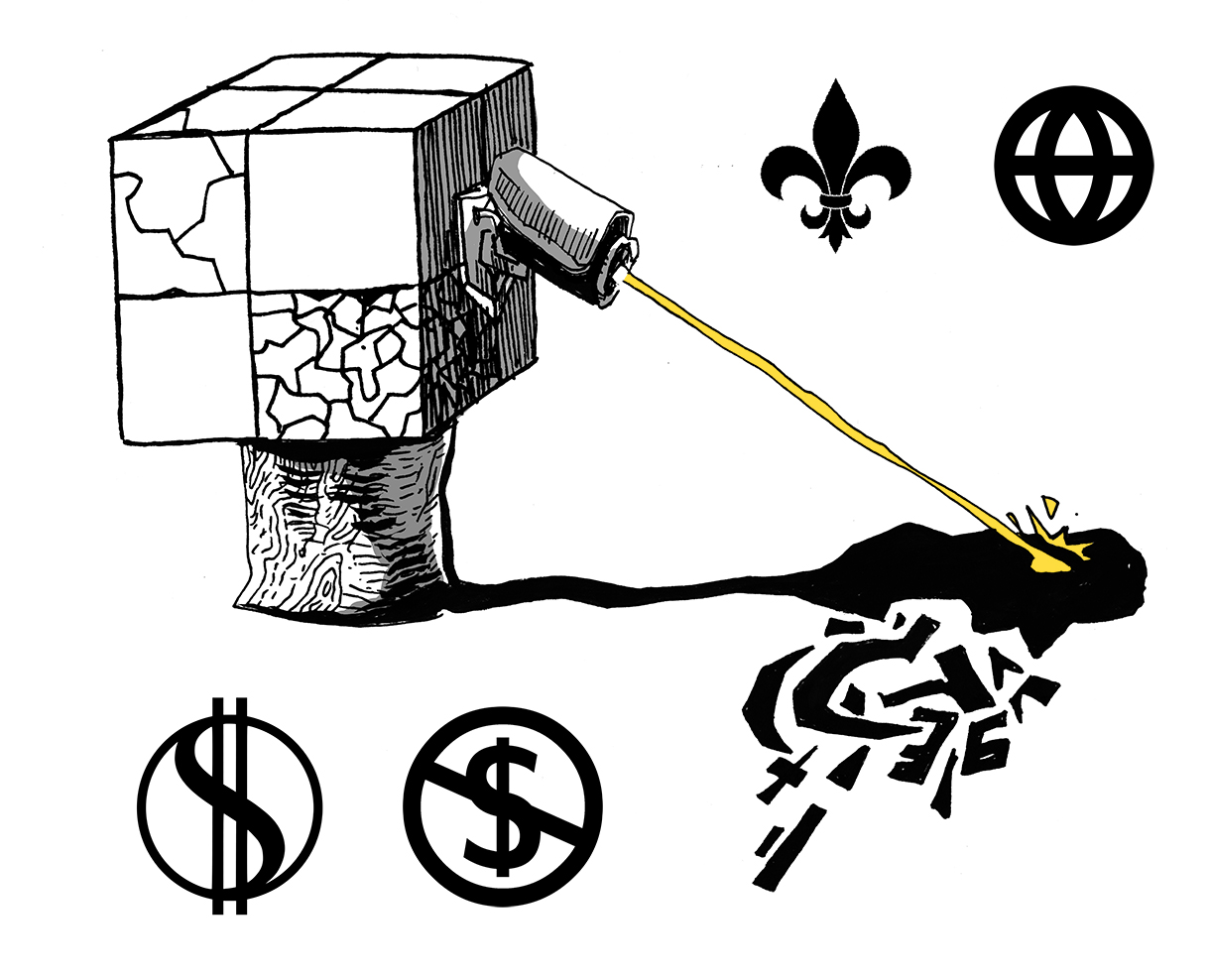



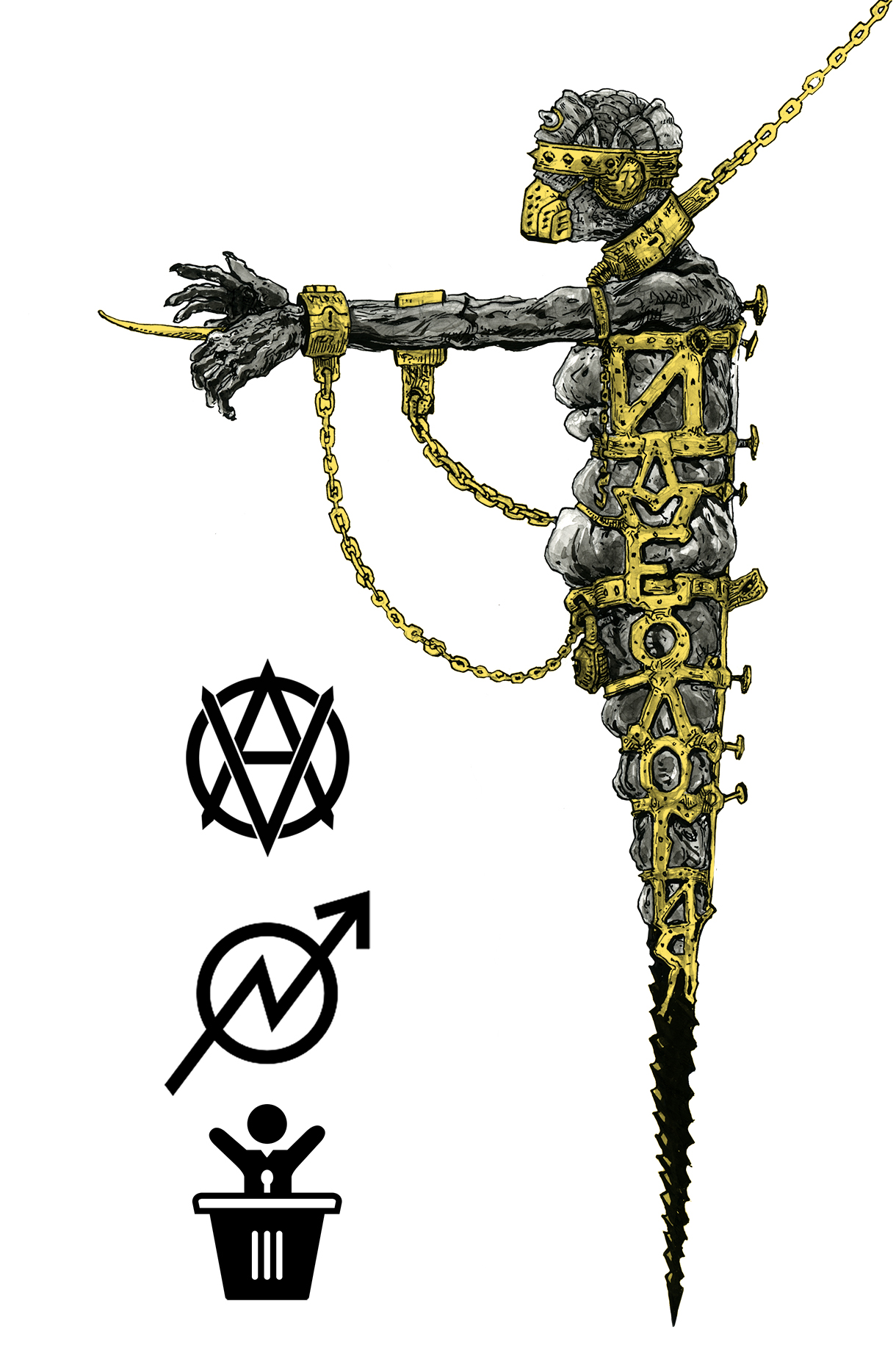
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: