Эсхатологии для электрической эры
Эсхатология – это представления о качественной трансформации отдельной личности или же всего человечества, а заодно и всей вселенной, и существует она, пожалуй, столько же, сколько и сколь-нибудь оформленные религии. Эсхатологические и апокалиптические мотивы, в известном смысле, оказываются центральными для множества религиозно-мифических систем, и предполагаемый «великий переход» как бы обозначает последний рубеж, в подготовке к которому и заключается вся остальная деятельность. Как говорится, «жизнь – это бытие по направлению к смерти».
Двадцатое столетие (условно говоря, конечно – включая в него и вторую половину 19-го века, и безболезненно начавшийся, вопреки прогнозам «майянцев», век двадцать первый) развернули классические эсхатологические мотивы под совершенно новыми углами – и вот об этом и хотелось бы поговорить, дав некий, неизбежно фрагментарный и во многом поверхностный, обзор характерных для нашей эпохи апокалиптических мотивов, а также соответствующих интерпретаций.
Прежде всего, стоит отметить очевидную вещь: условная «цивилизация двадцатого столетия» характеризуется взрывным ростом научно-технических систем восприятия мира и взаимодействия с ним, и соответствующими технологиями коммуникации, влияющими на весь уклад жизни, в результате чего классическое религиозное мировосприятие в его исходном виде становится, по сути, невозможным. Даже воображаемая община изоляционистов, старающихся жить в традициях средневековья, будет осознавать, что делит планету с современной цивилизацией и так или иначе иметь это в виду. Однако, несмотря на невероятный прогресс науки, настойчивые попытки изгнать мифологию, магию и религию из человеческого мышления, видимо, не только обречены на провал, но и изначально бессмысленны – поскольку всё это является совершенно естественными и, пожалуй, неизбежными способами существования человеческого ума, своеобразными системами восприятия смысла, в противоположность чистой прагматике НТР. И здесь как раз возникают интереснейшие явления – взаимодействие мифо-религиозных и магических мотивов (мы можем их рассматривать просто как глубинные паттерны организации психики) с современными технологиями коммуникации и представлениями об устройстве мира. Разумеется, это выпукло и ярко проявляется и в эсхатологии.
Главные эсхатологические мотивы связаны с новым осознанием места человека во вселенной. С одной стороны, теперь человечество – «всего лишь» один из видов, живущих на одной из планет в одной из звёздных систем в колоссальной вселенной, об устройстве которой мы можем лишь смутно догадываться. С другой стороны, благодаря мощи научно-технического прогресса мы получили доступ к технологиям, позволяющим радикально влиять на окружающий мир. Отсюда и происходят центральные апокалиптические мотивы современности: пробуждение древних хтонических сил; вторжение извне; технологический кошмар. Эти мотивы взаимосвязаны, и по-разному переплетаются в творчестве современных художников и писателей, а также и по-разному интерпретируются современными мыслителями.
Мотив пробуждения древних в принципе не очень-то и нов, он вполне представлен и в классических мифологиях. Но если в древних системах он представлялся чем-то закономерным, очередным завершением вселенского цикла, например, то теперь перед нами возникает образ современного человечества как букашки, живущей на тонком льду, скрывающем океан кошмара. Конечно, главным певцом подобной эсхатологии является Говард Лавкрафт, бесконечно развивавший одну и ту же идею – мы в этом мире никто, нам лучше даже не догадываться об истинном положении дел, но придёт час, и кошмарные Древние Боги сметут человечество с лица земли, будто его и не было никогда. Древний ужас никуда не делся, он просто спит до поры до времени – и обязательно проснётся как в отдельно взятой душе («Крысы в стенах», «Тень над Инсмутом») так и в масштабах всего человечества («Зов Ктулу»). Здесь же и мотивы вторжения извне – мы просто не ведаем, что во вселенной существуют чудовищные, кошмарные существа, которым до нас нет никакого дела. Однако у Лавкрафта наступление апокалипсиса оказывается практически никак не связано с действиями самого человечества, и это важный момент. Чудовищный Р’Льех восстаёт из глубин вовсе не в результате чьих-то необдуманных действий – нет, просто неведомые нам звёзды сошлись нужным образом, или произошёл какой-то природный катаклизм. Характерный мотив «ящика пандоры» возникает у Лавкрафта лишь в одном случае: когда речь идёт о «личном конце света» – кто-то слишком любопытный узнал нечто, что свело его с ума, а то и привело к необратимой мутации. А вот в знаменитом пост-лавкрафтовском кинофильме «В Пасти Безумия» Карпентера дело обстоит иначе. Приход Древних и погружение человечества в беспробудный кошмар оказывается результатом действий конкретного «антихриста», писателя Саттера Кейна. И главное – основным инструментом «открытия врат» здесь становится технология коммуникации – выпущенный огромным тиражом бестселлер, сводящий читателей с ума.
Ещё интереснее преломляются эти мотивы у Нила Стивенсона в «Лавине» и «Алмазном веке». Оба романа подводят читателя к угрозе радикальной, апокалиптической трансформации цивилизации в нечто до-цивилизованное, племенное, и ключевым элементом снова являются технологии. В «Лавине» это нейро-лингвистические алгоритмы, обнаруженные хаббардоподобным «антихристом» Л.Бобом Райфом, мечтающим о мировом господстве, а в «Алмазном веке» такой фигуры и вовсе нет – сама цивилизация под воздействием новых коммуникаций возвращается в трайбалистическое состояние, вполне в духе идей Маршалла Маклюэна. Перекликается с «Лавиной» и знаменитый мини-сериал «Дикие Пальмы», где точно такой же мегаломаньяк, тоже «списанный» с Рона Хаббарда, стремится стать «голографическим вампиром», живущим в техно-мистических грёзах нового человечества.
Сделаем небольшое отступление. Как известно, апокалиптические настроения в обществе, появление сект, ожидание конца времен коррелируют с периодами сильных социальных трансформаций – и можно сказать, что сами эти настроения есть просто некая реакция ума на слишком быстрые перемены, не поддающиеся осмыслению в рамках старых систем. У столкнувшегося с радикальными изменениями общества, как и у отдельного человека, не такой уж большой спектр возможных реакций. Это может быть попытка отменить эти изменения, пока не поздно – и тогда апокалиптические видения принимают форму мрачных предупреждений о том, что будет, если мы не одумаемся, не начнём жить праведно. Это может быть регресс на ранние стадии развития, вплоть до первобытных систем восприятия и инфантильного оцепенения. Это может быть более или менее успешная попытка вписаться в новый мир, создав новую подходящую идеологию. Такая идеология неизбежно будет новой мифологией – и наиболее проницательные мыслители сознательно пытаются её сконструировать.
Сюрреалистические романы Уильяма Берроуза – прекрасный образец подобных стремлений. Он сам так и говорил о своей «Тетралогии Сверхновой», что это – его попытка создать «новую мифологию для космической эры». Используя привычный для Америки шестидесятых арсенал научной фантастики, психологии, науки и маргинальных дискурсов вроде сайентологии Хаббарда, оргономики Райха и общей семантики Коржибского, Берроуз рисует картину человечества, балансирующего на грани глобальной катастрофы. Формально это – вторжение извне, из какой-нибудь Крабовидной туманности, инопланетных существ, порабощающих человечество и ведущих его к термоядерному кошмару. Фактически – это описание ситуации, в которую попали люди, открыв технологический «ящик пандоры», когда способности трансформировать реальность – как социальную, так и индивидуальную – существенно опережают способности предсказывать последствия таких вмешательств и тем более эти последствия предотвращать. Берроузова «Банда Сверхновой» – это метафорические образы человеческих пороков, точно как в средневековой демонологии, но вместо линейных схем причинности и телеологии Берроуз пользуется современными ему кибернетическими идеями обратной связи, репликации и так далее. Демоны, ангелы, боги, дьяволы – все они, по Берроузу, существуют, но не в виде реальных существ, а в качестве кибернетических паттернов, социальных вирусов, психофизиологических петель обратной связи.
Еще более проницательным оказался Джеймс Баллард, едва ли не главный певец апокалипсиса в литературе 20-го столетия, озаглавивший сборник своих статей «Руководством пользователя для нового тысячелетия» и считавший «Культуру апокалипсиса» Парфри книгой, обязательной к ознакомлению для каждого, кто хочет хоть немного понять, что происходит вокруг. Как и для Берроуза, для Балларда внешний мир есть отражение внутреннего космоса, и апокалипсис внешний является просто декорацией, в которой разворачиваются причудливые деформации личности и общества. Ранние его романы – «Затонувший мир», «Засуха», «Хрустальный мир» – демонстрируют изменения психики, например, регресс на доцивилизованный уровень, в условиях глобальной природной катастрофы. Здесь катастрофа приходит извне, как данность, по не зависящим от людей причинам, человеку же остаётся пройти своеобразную адаптацию, индивидуацию и/или регресс. А вот «Выставка жестокости» – центральная его книга – устроена уже совсем иначе. Апокалипсис, или, по Балларду, Третья Мировая война, уже происходит, и этот апокалипсис – само двадцатое столетие, с его мировыми войнами, массовыми коммуникациями, расщеплением атома, космической программой, пластической хирургией и квантовой механикой. Радикальная трансформация человечества – которое и есть суть эсхатологии – уже началась, и продолжает набирать обороты. И произошла она вовсе не по внешним причинам, а просто в ходе развития цивилизации. Многоликий герой «Выставки» Травен пытается по-разному примириться с этой ситуацией, разрабатывая комплексы личных мифологий, техномагические психодрамы и ритуалы, включающие в себя всевозможные элементы коммуникационного ландшафта. В финальной главе («Ты, я и континуум»), как и в книгах Берроуза, наконец приходит своеобразное меланхоличное успокоение-принятие ситуации, кошмар перестаёт быть кошмаром и становится рождением нового восприятия, когда старая, привычная личность героя угасает, мерцая и отражаясь в элементах новой вселенной. Но перед этим Травен сделает ещё не одну шизофреническую попытку, пытаясь соотнести себя с изменившемся континуумом пространства и времени.
Похожая ситуация катастрофы сознания при столкновении с новой технологической парадигмой характерна и для творчества Андрея Платонова – например, знаменитый «Котлован» вообще представляет собой очень «баллардианское» произведение, и переклички в творчестве двух гениев иногда просто удивительны. Наступление эпохи коммунизма – это абсолютно эсхатологическая ситуация для платоновских героев, перестраивающая всю организацию общества и психики, и из причудливых попыток адаптироваться к новым условиям, сотворить новый миф для индустриальной эпохи, выстраиваются платоновские сюрреалистические сюжеты. Апокалиптические мотивы легко увидеть и в творчестве многих других творцов тех лет – например, у поэтов-обэриутов, особенно Александра Введенского, многие стихотворения которого оказываются сценами «двухуровневого апокалипсиса» (как следует из анализа его стихов М.Б.Мейлахом), причём здесь речь идёт о своеобразной версии апокалипсиса – об апокалипсисе семантическом.
Это своеобразная версия конца света, где главным оказывается не физическая или социальная трансформация человечества, а полное исчезновение привычных смыслов, в результате чего мир превращается в некое подобие сюрреалистического бреда. При всей причудливости стиля и образов Берроуза его книги как раз ничего подобного собой не представляют, а вот произведения Введенского – вполне. Множество образцов подобного (жанра?) можно найти среди перестроечного кинематографа – что вполне понятно, поскольку сама перестройка как раз и оказалась для целой страны своеобразным семантическим апокалипсисом в миниатюре. Вообще перестройка и девяностые породили огромное количество эсхатологических произведений, точно так же как и коммунистическая революция в начале двадцатого столетия. Например, Юрий Петухов сочинял один за другим свои алармистские кошмары, суть которых вполне проста: если мы не одумаемся, не вернёмся к православию, самодержавию и русскому национальному единству, то мумия Ленина выползет из мавзолея, пожрёт всё человечество, Земля превратится в многомерный концлагерь, а последние остатки Истинного Духа уничтожат инопланетные пауки. Графомания Петухова – отличный образец классической, «кондовой» эсхатологии, а вот печально известный фильм «Детонатор, или Великое замыкание» – это пример семантического апокалипсиса в чистом виде. Пересказывать его бессмысленно, а посмотреть стоит. Это, конечно, то ещё произведение в отношении художественных достоинств (и это мягко говоря), однако ситуацию «полного конца смысла» оно транслирует идеально, да так, что даже чудовищный монтаж, режиссура и всё остальное начинают казаться своеобразными достоинствами. Весь привычный мир в этом «фильме» внезапно превращается в нескончаемый делириозный карнавал, напоминающий похмельный бред. (Нечто похожее, кстати, происходит и в «Голубом Сале» Сорокина, хотя того больше интересует своеобразный «психоанализ русской культуры», а вовсе не предчувствие грядущего конца света).
Мотивы «конца смысла» можно найти и в прекрасных «Песнях со второго этажа» Андерсона, и в некоторых рассказах Р.А.Уилсона и Виктора Пелевина, но лучшим произведением на эту тему – а заодно и лучшим фильмом о конце света вообще – я считаю «Девять жизней Томаса Катца» Бена Хопкинса. Этот фильм обязателен к просмотру, и если кто вдруг его по каким-то причинам не видел – лучше возьмите да посмотрите, чем читать даже краткие упоминания о сюжете. История о спустившемся в наш мир из канализации Антихристе, чей modus operandi заключается в том, что он претворяет в реальность самое глубинное желание каждого встречного, занимая в итоге его место, и постепенно превращает мир в нечто вроде оккультной версии скетчей Монти Пайтона, может быть трактована по-разному. В том числе и как, опять же, аллегория катастрофической трансформации мира под воздействием новых коммуникаций.
Вот мы и вернулись к повторяющемуся мотиву современных апокалиптических произведений. Человек овладел наукой и техникой, и изменения, привносимые ими, оказываются настолько фундаментальными, что мир перестаёт укладываться в привычные схемы. И парадоксальным образом, для того чтобы сориентироваться в этом новом мире, приходится снова обращаться к магии и мифотворчеству. Магия науки сделала мир таким, что для существования в нём теперь нужна наука магии, хотя бы потому, что никакая доступная людям наука уже не в состоянии ухватить его сложность и непредсказуемость.
Это может происходить, например, в результате неосознанного регресса психики. На эту тему у Пелевина есть замечательное эссе «Зомбификация», где он сравнивает коммунистическую идеологию с бульдозером, который снял верхний слой почвы на холме (та самая «борьба с поповщиной»), а в итоге провалился куда-то вглубь, в архаический могильник с черепами и мумиями, на уровень первобытных ритуалов вуду. Ленинский мавзолей-зиккурат сам по себе служит яркой иллюстрацией сказанного, ну а если кому мало, то в апокалиптических видениях из трилогии Ильи Масодова такая панорама разворачивается в полную силу. Да и у самого Пелевина многие произведения построены по такому принципу, когда выясняется, что за структурой современных коммуникаций (рекламы, ТВ, интернета и так далее) скрываются шумерские пирамиды, кровавые жертвоприношения и всё те же вселенские заговоры.
Но мифо-магическое мышление как реакция на технологическую гонку может появиться и в результате осознанного поиска новых способов восприятия. Разумеется, на этом пути можно наделать массу глупостей и породить огромное количество бредовых систем, что и происходит, – но если вооружиться гибкостью ума и чувством юмора, то, пожалуй, есть шанс нащупать нечто конструктивное. Кажется, к чему-то подобному стремился Р.А.Уилсон, чей роман «Иллюминатус» – это, в числе прочего, и своеобразная энциклопедия различных вариантов восприятия одной и той же ситуации. Ситуация, кстати, заключалась как раз в «имманентизации эсхатона», то есть, дословно, в осуществлении конца света. Уилсон тут не одинок – похожие мотивы были, насколько я понимаю, и у Пинчона в «Радуге тяготения», и у Ишмаэля Рида в романе «Мумбо Юмбо» (все три книги, кстати, появились независимо в одно и то же время). И, конечно, нельзя обойти вниманием «Иллюминатус 90‑х», графический роман «Незримые» Гранта Моррисона. И Уилсон, и Моррисон используют весь арсенал современной апокалиптической культуры – тут тебе и вторжение кошмарных «лавкрафтианских» существ из другого измерения, и чёрная техно-магия, превращающая людей в зомби, и всевозможные заговоры, и распад пространственно-временного континуума, и психические и физические перерождения… Однако оба автора делают центральным элементом своих произведений простую идею: ожидание и страх внешней катастрофы может оказаться просто экстернализацией внутреннего кризиса. Эта мысль характерна для трансперсональной психологии Грофа, где апокалиптические видения оказываются проекциями «негативных перинатальных матриц», то есть, определённых этапов рождения. Или для глубинной психологии Юнга, где образ апокалипсиса есть образ индивидуации, перерождения эго при столкновении с Самостью. Миф о конце света в таком случае – это оборотная сторона мифа о Золотом веке, страх повторного – и на этот раз, окончательного – грехопадения. Предполагаемая гибель человечества тогда – вовсе и не гибель, а рождение нового мира. Только вот каким этот мир будет? Будет ли это мир новых возможностей и новой свободы? Или всё же вселенский концлагерь? И можно ли всё-таки остановить этот процесс?
Если развивать взгляд Моррисона, Уилсона, Балларда, то выходит, кажется, так: да, апокалипсис уже происходит. В наш мир уже вторглись некие могущественные силы – и это, конечно, не рептилоиды с Нибиру и не Ктулу с Йог-Сототом. Это технологии коммуникации, вступающие в симбиоз с толком до сих пор не изученными и не понятыми паттернами и скрытыми силами человеческого мышления, восприятия и поведения. Мы, как любил говорить Маршалл МакЛюэн, едем по скоростной автостраде, глядя только в зеркало заднего вида. Попытки остановить этот процесс бессмысленны – этого можно добиться лишь ценой уничтожения всего нынешнего уклада жизни, вместе с технической базой, и того самого регресса куда-нибудь в средние века всем человечеством сразу. Это, конечно, вполне реальная перспектива, мало ли что может произойти – но перспектива, привлекательная лишь для не очень-то сообразительных людей. Хотя бы потому, что отброшенная назад цивилизация снова пойдёт путём развития и снова столкнётся с теми же кризисами коллективного роста. Замереть в той точке, где мы находимся, тоже невозможно – потому что человечество вместе с населяемым им мирозданием это не бетонный дом и даже не механизм, а организм, развивающийся и меняющийся. С другой стороны, с улюлюканьем нестись вперёд, не глядя даже в зеркало заднего вида – не менее пагубная самонадеянность. Так что и апокалиптический алармизм, грозящий нам всеобщим кошмаром, если мы не обратимся к древним духовным скрепам, и апокалиптический оптимизм, рисующий картины светлого технократического будущего, где все проблемы будут одним махом решены – этакие Сцилла и Харибда. (Кстати говоря, популярная в трансгуманизме идея технологической сингулярности – это, конечно, очередное апокалиптическое видение, всё та же старая добрая эсхатология, только нарисованная с помощью образов и терминов науки и научной фантастики).
Апокалипсис неизбежен – он уже происходит, но мы живы и чувствуем себя пока в целом неплохо. Апокалипсис неизбежен – но мы можем легко потерять себя и остатки смысла на следующем повороте. Как говорил Хагбард Челине – это органический процесс, а не механический. И какой стороной упадёт эта монета, заранее неизвестно.
Апокалипсис – это психоделический трип в масштабах цивилизации, а кислотой, как предвидел Тим Лири, являются технологии – компьютеры, соцсети, космический интернет, блокчейн и так далее. Хорошее это путешествие или бэд-трип? Посмотрим. В конце концов, есть мнение, что only bad trip is good trip, будем помнить и об этом. Так что, пристегнитесь покрепче, друзья. Вооружившись комплектом новых мифологий для космической эры, мы мчим по выставке жестокости, мимо бетонных зиккуратов и роторных экскаваторов из лошадиных черепов, прямиком в самую пасть безумия, с The Future Леонарда Коэна в колонках и баллончиком Убика в бардачке. Наш билет в предсказуемое будущее давным-давно лопнул, но мы успешно объехали уже не один котлован, и из девяти жизней ещё точно не все потрачены. Всё, что в наших силах – это внимательно смотреть, с осторожностью, но без страха, с интересом, но без очарования, на изумительные панорамы конца времён, что разворачиваются вокруг. И искать способы сориентироваться в новой реальности, помня, что монетка может упасть и третьей стороной.
Текст: Ibsorath
Иллюстрации: Нетта
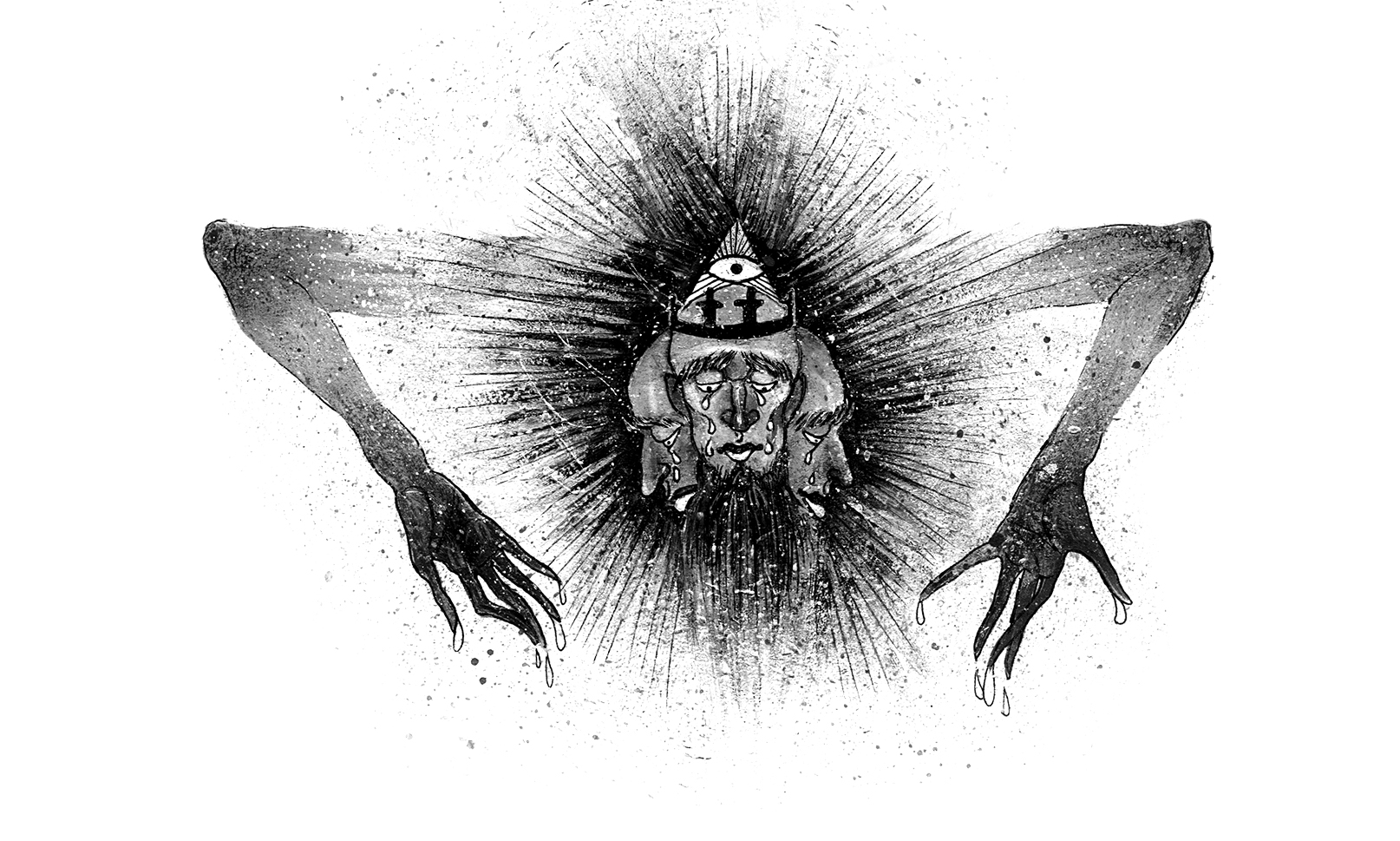
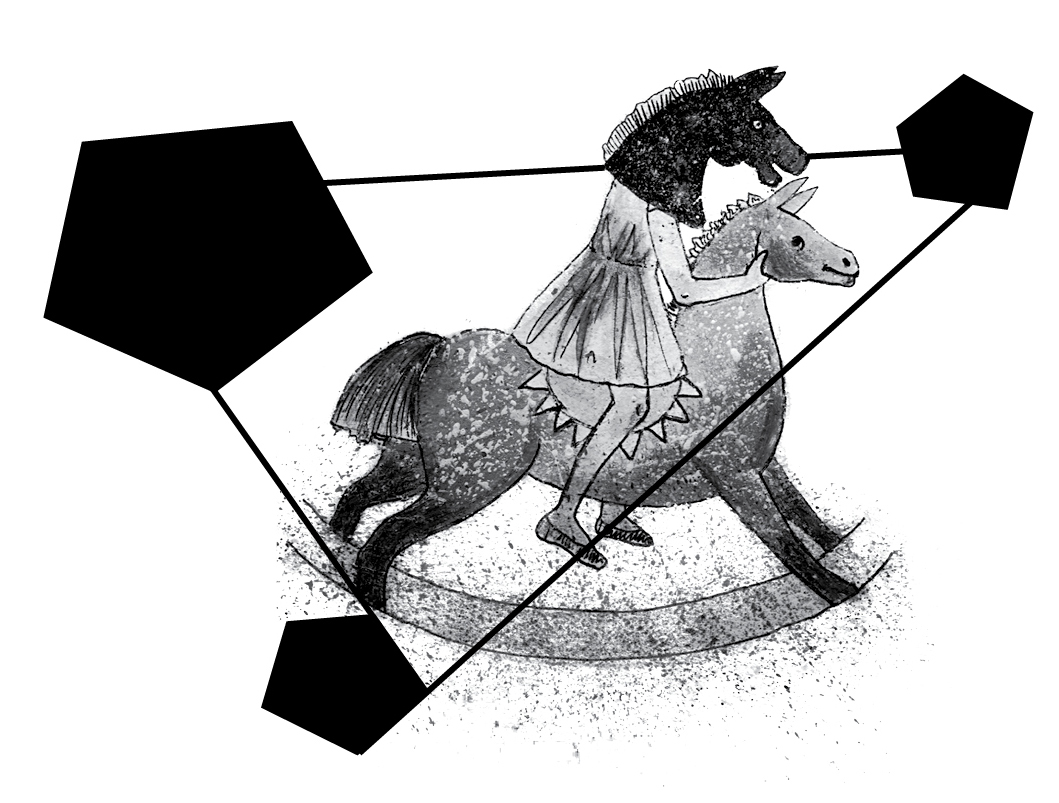
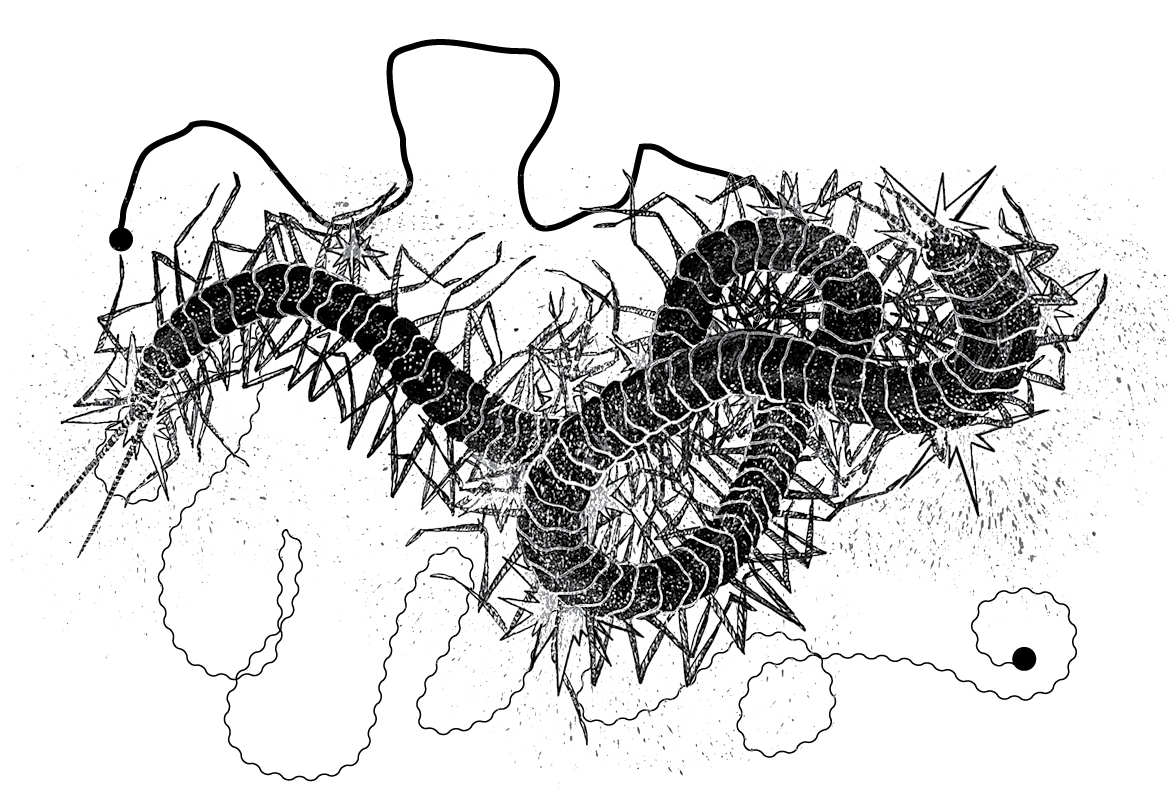

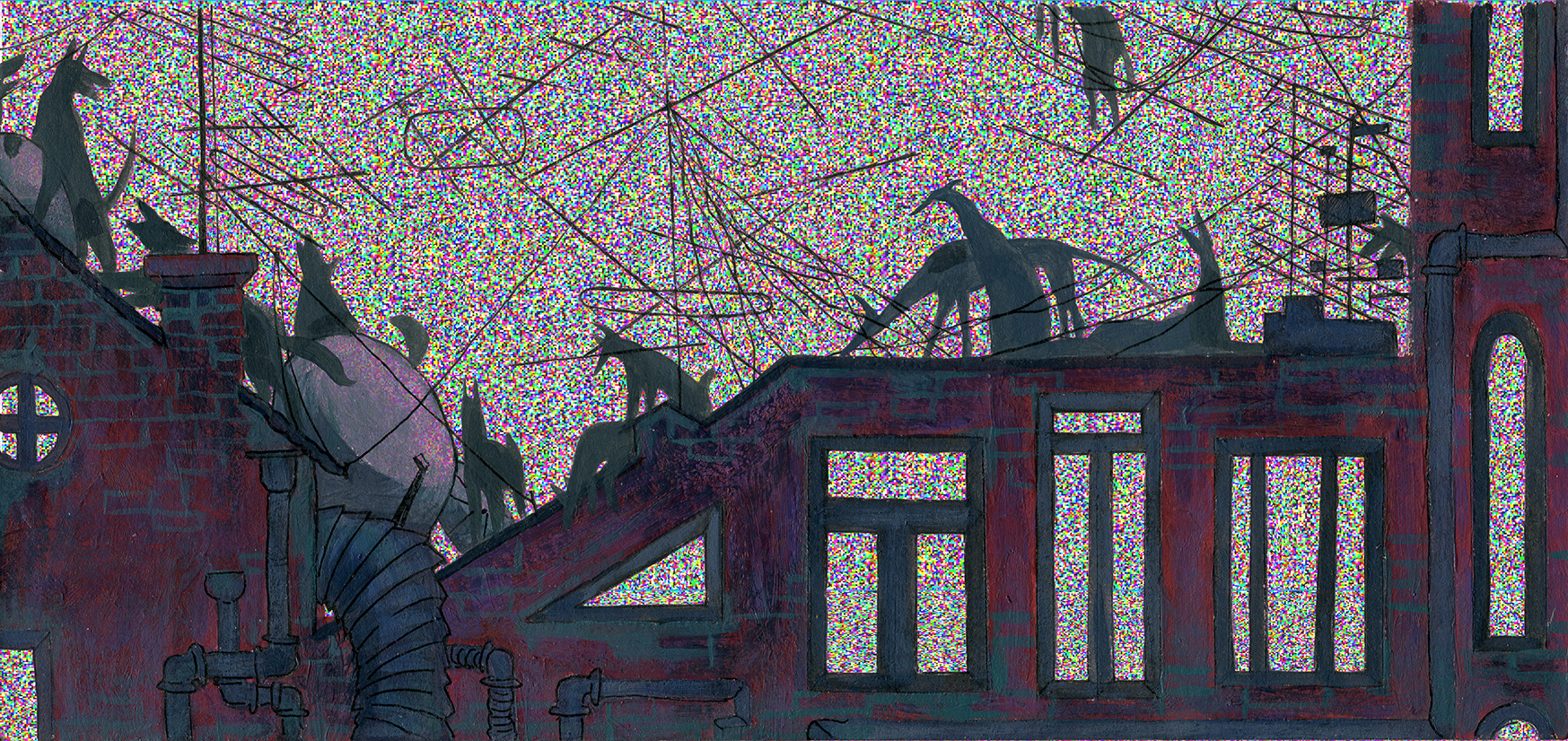


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: