Тень отца
От редакции. К этому тексту сложно писать подводку, поскольку место его в катабазийном смысловом поле не вполне очевидно. Формально это первая глава «Несуществующего животного» – первой книги Раймонда Крумгольда, публикующаяся впервые сегодня, в день, когда его отцу Валдису Крумгольду могло бы исполнится 60. Глава длинная и, пожалуй, самая сложная для восприятия – биография поэта из Даугавпилса, которая через сотню страниц закономерно сменится автобиографией. Написанная от второго лица, как личное обращение. Её сложно рекомендовать к прочтению, несмотря на то, что – на мой вкус – она прекрасно написана: порог вхождения весьма высок.
Безусловно, «Тень отца» (как и вся книга) – продукт магической работы. Работы, которую на доступном ему языке было бы полезно совершить каждому. Однако это едва ли делает её экспериментальной литературой, как кто-то из вас уже успел подумать: языковое воплощение достаточно традиционно, и едва ли это противоречит задачам автора. Вязкое и парадоксально ритмичное повествование с большим вниманием к мелким деталям начинается с рассказа об этногенезе латгальцев, «веке-волкодаве» с несколькими волнами чисток и братоубийственной Второй мировой, советской Латвии времен застоя… семейной истории. Которая, тем не менее, затягивает: важностью, которую всё это имеет для автора, тяжело не проникнуться. Исторические справки, мазки быта, переживания, которыми, как правило, делятся лишь с самыми близкими… «Тень отца» архетипически лична: читая её, вспоминаешь все, что сам хотел бы рассказать о своих корнях. Иногда до слёз.
Имея перед глазами полный текст книги, мне легко представить ее изданной «Ультра.Культурой». Начиная со второй главы, книга становится динамичнее и острее – несмотря на то, что всё больше превращается в интересное сочетание дзуйхицу с последовательным и достаточно откровенным самоанализом. Стеклянный лабиринт аутического спектра, будни нацбольского активизма в Латвии, психоделики, тюрьма, «Культура Апокалипсиса», ритуальная магия… Только вряд ли в середине нулевых книга смогла бы быть написана именно такой.
Я надеюсь, что автор не будет возражать против её полной публикации в ближайшем будущем, но речь пока всё же идёт о первой главе. «Тень отца» – это важный пример отношений со своими тенями и теми, чьими тенями являемся мы сами. В общем-то, вот и ответ о катабазийном контексте: «Тень отца» – это важный репорт об одном из аспектов самопознания. Откровенном разговоре со своим отцом.
Insect Buddha
Нулевой Аркан
Письма мёртвому человеку
00.01: Тень Отца
Вы родились в 1958‑м. 16 августа.
Умерли в 1985‑м. 24 декабря. Ровно тридцать лет назад.
Мне не было даже четырёх лет. Сейчас я на шесть лет вас старше.
Я ничего про вас не помню: единственное воспоминание, пробивающееся через десятилетия, связано с днём вашей смерти. Лишь обрывок: там лицо рыдающего младшего брата и бесформенный, чем-то пугающий силуэт тела, лежащего на диване.
Тень отца.
За окном – снег. На мне тёплая одежда, которую я узнаю на своих старых фотографиях. Общее ощущение непонимания происходящего в сочетании с паническим страхом. Я не знал, что произошло, но уже боялся. Впрочем, не уверен, что к ребёнку такого возраста применимо слово «я».
У меня потом было несколько ваших фотографий. От одной из них возникло впечатление, будто я видел это лицо в движении. Но только впечатление, воспоминания не осталось. Я помню вас только мёртвым. Для меня отец – это редкие походы на кладбище. Довольно утомительные: ваша могила находится на самом краю коммунального кладбища, на вершине холма. Недалеко от неё обрыв, сразу за которым – насыпь с железной дорогой. Затем начинается лес. Это было моё любимое место игр. Я долго шёл с матерью, выполнял все скучные обязанности по уборке могилы, ожидая момента, когда мне можно будет убежать в сторону леса. Наверное, у меня не было реального понимания того, что это за могила. Она присутствовала в моём мире как данность.
Как данность я воспринимал и рассказы о том, что мой отец был великим поэтом. Это не означает, что я не доверял словам матери – я перестал ей доверять гораздо позднее. Однако её рассказы были слишком красивыми. В нашей жизни не было ничего похожего, это всё казалось сказкой.
Мне часто читали ваше стихотворение, посвящённое мне. Точнее, тому маленькому ребёнку, из которого в будущем вырасту я. Это стихотворение меня тогда совершенно не впечатлило. Особенность текста «Сын!» состоит в том, что он только формально посвящён мне. С самого детства, когда мне впервые, с придыханием и восторгом, прочитали его по памяти, меня не оставляло ощущение некой неправильности, даже фальшивости. Человек, к которому обращается текст, никак не воспринимался как «я». Только потом мне стало ясно, что на момент сочинения данного стиха мне было чуть более трёх лет. Это ещё не человек, это шимпанзе с потенциалом развития. Ребёнок такого возраста не может никого вести за руку, да и воображения на сочинение сказок ему явно не хватит. Вы написали этот текст мне будущему, но описали при этом собственное прошлое. Это единственный текст, в котором вы ищете собственное детство и сравниваете себя нынешнего с собой прошлым. Мне нужно было вырасти, чтобы это понять.
Всё изменилось в один день 1994 года, через девять лет после вашей смерти. Тогда я пришёл к бабушке, взял в почтовом ящике свежий выпуск одной из городских газет, открыл его и увидел знакомые имя и фамилию. Валдис Крумгольд. Сразу прочитал статью, прибежал с ней на кухню, попробовал что-то сказать и обнаружил, что в моих лёгких отсутствует воздух. Что я открываю рот, как рыба, выброшенная на сушу. Оказалось, что в том году ваши друзья, давно превратившиеся в местный поэтический бомонд, напечатали подборку ваших текстов в городском сборнике Dzejas dienas («Дни поэзии»). Мать утверждает, что это она добилась публикации, устроив скандал вашему близкому другу Александру Барбакадзе. Поводом стали две его опубликованные книги. Рецензию на этот сборник попросили написать Иосифа Трофимова, профессора местного университета. И он из представленных там текстов выбрал для статьи только написанные вами в середине восьмидесятых. Для меня это был голос со стороны. Никак не связанный с моей семьей и обладающий нужным авторитетом. И этот голос подтвердил всё, что мне до этого говорили.
В этот момент у меня появился отец. Мёртвый, забронзовевший, уже не способный на ошибку. Вы были никому не известны, мало кого заинтересовал вышеописанный поэтический сборник. Но для меня было очевидно, что вы просто не успели. Вы умерли перед самым взлётом, уже показав свой потенциал. И этот нереализованный потенциал незнакомого мне человека лёг на меня мёртвым грузом.
Однажды я сказал про это вслух. В городском литературном журнале «Невгин» напечатали все ваши сохранившиеся стихи. Вместе с воспоминаниями друзей. Воспоминания были разные. И забавные, и грустные. Мама, конечно, написала в основном про себя. Мы с братом ничего не написали, нам было нечего вспоминать. Но мне предложили выступить на литературном вечере. Там ваши друзья читали свои стихи, по большей части слабые, но иногда трогательные. Знакомые нашей семье барды, Евгений и Ирина Ливитины, спели песню на ваше стихотворение «На возвращение нанизаны пейзажи». Вы должны были знать Евгения, он тоже работал на ЛРЗ и играл в конкурирующей футбольной команде. Уже десять лет он похоронен недалеко от вашего отца, моего деда. Песня была хорошей, хотя в моём сознании это стихотворение звучит совершенно иначе, не так оптимистично. Но это вопрос только эстетики – люди были очень хорошие, песня талантливая. Просто бардовская песня – это немного не моё. Мне тоже предложили выступить. Я вышел и сказал правду. Про то, что каждый человек должен преодолеть своего отца. Превзойти его. И что я не в состоянии это сделать. Разумеется, эту речь восприняли просто как эпатаж. Хотя я совершенно не стремился никого эпатировать.
У меня ничего не осталось от вас. Было несколько книг с вашими пометками. В основном поэзия. Однажды я очень удивился, найдя в одной из этих книг пометки, написанные рукой моей матери, из которых следовало, что она прекрасно понимает написанное и анализирует его, собираясь обсудить с Валдисом все спорные вопросы. Самая большая для меня загадка вашей библиотеки – том с текстами Сталина. Скучные статьи про вопросы ленинизма и языкознания покрыты пометками и комментариями, предельно неразборчивым почерком. Сам я читал этот том в период собственного увлечения сталинизмом, и для меня было важнее понять сами статьи. Сейчас я очень жалею о том, что потерял эту книгу в многочисленных переездах. Мне кажется, что если бы я вчитался в эти пометки и понял, что именно вы искали в статьях Сталина, то я бы хоть немного узнал вас. Понял бы хоть немного про своего отца.
Ещё осталась анкета. Из неё я узнал ваш любимый девиз, «Нет предела совершенству», и любимую героиню, Инессу Арманд. И что вашей отличительной чертой было «самоедство». Что представлением о счастье было «жить так, чтобы не было стыдно перед детьми». То есть передо мной и Юрисом. А также о глубокой неприязни к поэзии Сергея Острового и любви к книге «Мартин Иден». Через много лет я напишу маленький цикл верлибров о своей семье и детстве. Вспомнив про эту анкету, я назову его «Эфемерида», в честь поэмы, написанной одним из героев Лондона. Выбор этой книги многое говорит мне о вашем самовосприятии. Я сам прочитаю этот роман только в 21 год, уже сидя в тюрьме. Мать передала мне эту книгу. Потом я её потерял, пытаясь расширить щель в «наморднике» на окне и получить груз из соседней камеры. Книга улетела прямо под ноги патрулю, у сокамерника уже были нарушения, и ему не стоило увеличивать их список, так что своё первое нарушение получил я. К счастью, я успел прочитать сам текст.
Рядом с анкетой лежит единственный листок с рукописными стихами. Черновик. Стихи переписаны почерком моей матери. (Ваш настоящий черновик все эти годы лежал дома у Барбакадзе, забытый даже им самим. Его не было в моей жизни буквально до этого вечера.) И коллекция вырезок из городских газет. Заметка про выставку художника Ромуальда Гейкина. Немного ученическая, старательная, с фразами вроде: «Художник подмечает внутреннюю противоречивость, конфликтность современной динамической цивилизации, вызывающей у него некоторые опасения», конец цитаты. Несколько стихотворений, напечатанных рядом с произведениями столь же забытых современников. Мне особенно понравился один – Александр Григорьев, писавший плохо рифмованную научную фантастику про роботов.
И некрологи. Несколько некрологов подряд.
Когда я сканировал этот маленький архив, я включил в него и некрологи. Если бы вы меня действительно слушали, то не поняли бы, что такое «сканировать». Но так как адресат жив только в моём сознании, то я не буду объяснять в мелочах тому, кто умер тридцать лет назад, чуждую ему жизнь. Просто сосканировал. Перевёл в цифровой формат.
Особенно меня заинтересовал один некролог, совмещённый со стихами. Изображение получилось перевёрнутым, но когда я его увидел, у меня перехватило дыхание. На абсолютно белом фоне висел оборванный, пожелтевший листок бумаги с зимней фотографией: деревья и снег. На нём были текст и стихи, но для того, чтобы их увидеть, нужно было наклонить голову. Конечно, я сделал копию и перевернул её в правильном направлении. Но я оставил это изображение. В нём совершенно случайно оказалось показано, словно иероглифом, то, что я за все эти годы так и не смог выразить словами.
Нет доступных изображений.Этот текст является очередной попыткой сформулировать неформулируемое. Я долго не мог понять, кто его адресат. Кому я могу рассказать короткую историю жизни и смерти своего отца. Не читатель – этот текст сможет прочесть любой. Но адресат – тот, кому я действительно хочу рассказать всё то немногое, что знаю. Потом я вспомнил, что в моём архиве есть черновик незаконченного стихотворения, в котором я пытаюсь обратиться к вам напрямую. Пишу о том, что уже прошло тридцать лет вашего бесконечного сна, мне уже тридцать три, меня трудно назвать вашим сыном. И признался сам себе, что у меня есть только один реальный адресат. Ваш памятник, ваш образ в моём сознании, коллаж из ваших текстов. Ваша кровь во мне. Конечно, это очень странно – обращаться к мёртвому, рассказывая своё представление о его жизни. Но если моя задача – стать голосом того, кого нет, то и слушателя быть не должно. Неважно, кто в итоге прочтёт этот текст. Я хочу говорить с вами. С вами и о вас.
Что я знаю про наши с вами корни? Немного.
Вы были чистокровным латышом. Родились и умерли в советской Латвии. Вся ваша сознательная жизнь пришлась на годы застоя, последний год вашей жизни был годом начала перестройки. Разумеется, вы так и не узнали, что это такое на самом деле. Никаких серьёзных событий и потрясений, такую жизнь можно назвать скучной. Однако это не означает, что история нашей семьи была скучной. Наоборот, по истории наших с вами дедов и прадедов можно изучать судьбу одного небольшого и упрямого народа.
По линии матери вы были латгальцем. Первой фамилией моей бабушки, вашей матери, была Мукане, женская форма типичной латгальской фамилии Мукан. Ваш дед по этой линии был Франсис Мукан, бабушка – Текла Мукане, урождённая Сташане. Я знаю, что это были два крестьянских рода, столетиями живших на своей земле. По крайней мере, все известные мне предки по этой линии жили на одном месте. Муканы жили в деревне Айзалксне. Сташаны – в Бибелишках.
Два брата вашей бабушки, моей прабабушки, Теклы Сташане, всё же слегка повидали мир. Один из братьев, Язеп Сташанс, при царской власти жил в Петербурге, работал там на пороховом заводе. С началом революции вернулся в родную деревню, где и жил до внезапной смерти в расцвете лет. Уже собирался жениться. На сохранившейся фотографии он выглядел настоящим денди. Второй брат, Антон Сташанс, в Первую мировую погиб в Польше, под городом Бяла. От него осталась только фотография в военной форме. Круглая голова, мрачное выражение лица, классический образ крестьянина, ушедшего в солдаты. Остальные родственники по этой линии были домоседами. Родственников было много, крестьянские семьи тогда были большими. У Теклы кроме двух упомянутых братьев были ещё две сестры, Ядвига и Анна. И ещё один брат, Янис, женившийся на Хелене Мукане, сестре вышеупомянутого Франсиса. Там была и вторая сестра, Антонина Мукане. Моя попытка нарисовать схему со всеми родственниками по этой линии привела только к тому, что на листе не осталось свободного места. Из этого рода у вас были ещё два дяди, брата вашей матери: Казимир и Станислав Муканы. При взгляде на этот список бросается в глаза необыкновенная для любого другого места смесь балтских и славянских имён. Для Латгалии это было абсолютно нормально.
Сейчас я сделаю небольшое отступление. Не знаю, как вы, будучи советским человеком, воспринимали разницу между латышами и латгальцами, но мне лично этногенез латгальцев всегда был очень интересен. Долгое время я объяснял всем, что я не могу быть латышом, поскольку я наполовину русский и на четверть латгалец. Быть латгальцем во Второй республике казалось для меня куда более правильным. Это народ, существование которого сейчас отрицается по политическим причинам. Дело в том, что если признать латгальский язык не диалектом латышского, а отдельным языком, то латыши окажутся в меньшинстве в собственной стране. Это было бы реализацией самого глубокого на данный момент национального страха. Поэтому все языковые, культурные, религиозные и антропологические различия просто игнорируются.
В принципе, в этом есть своя логика. Все латыши – потомки балтских племён, покорённых крестоносцами из Тевтонского ордена и после перемешанных между собой в рабстве. Участие племени латгалов в общелатышском этногенезе очевидно уже из первых трёх букв названия получившегося народа. Это заметно и в языке. Мой любимый пример – слово krievs, которое означает «русский». Согласно археологическим данным, культура «длинных курганов», совпадающая по своему ареалу распространения с летописными кривичами, взаимодействовала с латгалами с VI века. Латгалы соседствовали и с псковскими, и со смоленскими кривичами. В кривичских могильниках столь очевидно балтское влияние, что есть гипотеза о том, что кривичи были славянизированным балтским племенем. В этом случае суффикс «ичи» мог быть добавлен при славянизации, а племя изначально могло называться «кривы», что сразу напоминает про крива – верховного жреца в языческой Литве. Это спорное утверждение: материальные остатки культуры ничего не говорят о языке их носителей. Но слово krievs явно возникло до появления «ичи» в конце. И явно относится к славянским соседям. В любом случае, сам факт того, что наши предки не обратили внимание на изменение самоназвания восточных соседей, говорит мне о многом. Если прадед сказал, что с той стороны живут кривы, значит там кривы. Точка.
Трудно сказать точно, насколько было сильно влияние исторических латгалов на их потомков, живших на территории собственно Латгалии. Но с XVII века Латгалия, в качестве Инфлянтского воеводства, была частью Речи Посполитой. Это и привело к заметным отличиям как в языке, заметно ославянизировавшемся, так и в религии: латгальцы остались католиками, в отличие от протестантской Латвии. Все эти различия отлично сформулированы в короткой латышской поговорке: «Латгальцы – это белорусы, не дошедшие до Риги».
Есть и антропологическое различие: среднестатистический латгалец крупнее среднестатистического латыша. В случае с нашей семьёй это различие проявилось в полную силу. До сих пор, покупая подарки бабушке, мы с братом ищем самые крупные размеры одежды и обуви. Прадедушка тоже был высоким, но похоже, что вы и ваш брат, мой дядя, пошли в мать. Мы с братом – в вас. Не знаю, чем вызвано это различие, Латгалия всегда была перекрёстком народов, но никогда – плавильным котлом. Туда бежали старообрядцы, там была черта оседлости для евреев. Ни один из перечисленных народов не стремился смешаться с соседями. Однако факт есть факт: латгальцы заметно выделяются. Бабушка говорит, что ей часто указывали, что она не настоящий латыш. И дед любил пошутить на эту тему. Но я не представляю, как это могло отразиться на вас. В любом случае, вы были настоящим уроженцем Латгалии – в одном из ваших черновиков я даже нашёл слово «ложим», в принципе отсутствующее в нормативном русском языке, но популярное в Латгалии и Белоруссии. Это одно из моих слов-паразитов, я никак не могу от него избавиться.
Со стороны вашего отца, моего деда, семья была чисто латышской. Но это была очень необычная семья. Крумгольцы были крестьянской семьёй в Курземе (Курляндии). Немецкая фамилия (krumholtz – это кустарник, скрученный ветром) вовсе не означает немецкого происхождения, среди латышей хватало «липовых» немцев. Конкретно эта семья получила немецкую фамилию, принимая лютеранство. Схожая фамилия есть в идише: при поиске известных в истории Крумгольцев выпадает большое количество евреев. Меня, из-за фамилии и манеры разговора, тоже постоянно принимали за еврея. Нескольких столкновений с антисемитизмом в юности хватило для возникновения глубокого сочувствия к еврейской нации и презрения к её гонителям. Но я уверен, что никто из моих предков с антисемитизмом никогда не сталкивался. Это я – полукровка, человек без чёткой этнической самоидентификации и чувства родины. У вас же была своя нация. И было ясно, кто вы.
Курземе, как понятно уже из названия, – историческая территория куршей, одного из самых воинственных народов восточной Балтики. Они носили очень эффектные свастики из четырёх змей и вполне успешно конкурировали на своей территории со скандинавами. Судя по хроникам, они не только отбивали набеги викингов, но и сами плавали в Швецию с целью пограбить. Позднее на этой территории было независимое Курляндское герцогство – естественно, немецкое, ухитрившееся при герцоге Якобе Кетлере добыть пару колоний за океаном: остров Тобаго в Южной Америке и остров святого Андрея, сейчас известный как остров Джеймс, в Африке, на территории современной Гамбии.
Разумеется, нет оснований считать, что в латышских крестьянах Курземе течёт почти не разбавленная куршская кровь. Стремление курляндских аристократов к экспансии тоже никак не могло повлиять на их латышских батраков. Но конкретная семья Крумгольцев в полной мере проявила и воинственность, и охоту к перемене мест. Для начала они купили землю в Сибири и добровольно уехали на другую сторону континента. Мой прадед и ваш дед, Август Крумгольц, сын Ансиса, родился в 1896 году где-то под Омском. Латышская форма Ansisa dels мне кажется адекватнее русифицированной формы «Ансович», но в некоторых документах отчество прадеда записано как «Ансипович», то есть полностью русифицировано. С детства он не расставался с винтовкой, вырос в итоге заядлым охотником. С детства же умел работать по дереву, поскольку вырос в тайге, где всё приходилось делать самостоятельно. Он и в старости будет часто уходить на охоту. Недалеко от нашего с вами дома будет сарай, в котором он будет с удовольствием заниматься столярными работами.
Август Ансипович тоже не был домоседом и совершенно не собирался умереть на новой родине. Он воюет в Первую мировую, это единственная часть семейного предания, подтверждённая фотографией. На фотокарточке – группа солдат в форме времён Первой мировой. На погонах – кресты. В центра сидит человек с поразительно знакомым лицом, очень похожим на моего брата. На груди – крест, похожий до степени смещения на солдатский Георгиевский крест. Эта награда не сохранилась. Нет никаких документов на неё, только его сын, ваш отец и мой дед, напившись, любил хвастаться тем, что у его отца был Jura krusts. Известно, что он воевал тогда в пятом Земгальском полку. В 1917 году за несколько дней боёв у Малой Юглы Георгиевские кресты получило более трети солдат этого полка. Правда, погон у вашего деда и моего прадеда на фотографии не видно. Видно лицо. Рост высокий. Взгляд уверенный и твёрдый.
Дальше – пустота.
Устное семейное предание однозначно говорит, что он пошёл в красные стрелки и воевал в Гражданскую. Упоминалось даже участие в охране Ленина, по крайней мере, про это с полной уверенность рассказывает мать. По её словам, это была в те годы официальная история семьи. Но бабушка и Андрис сейчас в один голос уверяют, что это преувеличение. Точно рассказывалось, что он в 18‑м с немцами воевал в составе всё того же пятого Земгальского полка. Этот полк 20 августа 1918 года был первым награждён Почётным революционным Красным Знаменем. Естественно, советская власть кидала его на самые опасные участки фронта. Именно пятый полк оборонял Казань. Но ни одного документа или фотографии об этом периоде в семейном архиве не сохранилось. Никаких юбилейных мероприятий или встреч с пионерами – только короткие упоминания в семейном кругу. Всё это подавалось как факт и сильно на меня повлияло. Я даже писал плохие стихи про то, что после смерти меня встретят мой прадед – красный стрелок и отец – советский поэт. Забавно, что в этот список не попал дед, единственный, кого я лично знал и чья смерть на меня по-настоящему повлияла.
Однако эти романтические истории вступают в небольшое противоречие с следующим этапом его жизни.
От этого этапа тоже не сохранилось ничего материального. Известно лишь то, что он после ранения, контуженный залетевшей в окоп миной, появился в Белоруссии, в латышской колонии под Бобруйском. Это была, судя по всему, деревня Радино Октябрьского района. Там было несколько таких деревень, латышских анклавов, поколениями державшихся своей культуры и языка. Сейчас из Латвии и Литвы в Белоруссию приезжают этнографические экспедиции в поисках информации про эти деревни. У меня даже есть книга со статьями про эти экспедиции и про историю белорусских латышей. Читая её, я и не подозревал, что там описывают поиски моей собственной истории.
Он появился в Белоруссии как перекати-поле – ни земли, ни денег. Нанимался работать в другие дворы. В этом описании нет никаких признаков того, что перед нами бывший член легендарной части Красной армии, сослуживцы которого стали частью партийной элиты. Его непосредственный командир, Иоахим Вациетис, в то время был главкомом вооружённых сил Республики. С другой стороны, ничто не указывает и на наличие у него Георгиевского креста, однако мы точно знаем, что он был.
Нравы в той колонии были серьёзные. Ваша бабушка, моя прабабушка, Мария, урождённая Томсоне, до конца своих дней плакала о «русском Ване», человеке, которого она глубоко любила, но выйти замуж за которого ей не позволил отец, Янис Томсон. Причина очевидна: браки допускались только среди своих. Её и выдали замуж за своего, но брак продлился недолго. Оказалось, что молодой муж продолжает встречаться со своей постоянной любовницей. Дело закончилось разводом, после которого шансы на новый брак стали минимальными. Тут на горизонте и появился Август, сын Ансиса. Он влюбился в одну из её сестёр (их было две, Анна и Юлия). Ухаживал за ней. Просил руки. Итогом переговоров стал брак с разведённой Марией. В случае с Августом никакой этнической проблемы не возникло. Ни этнической, ни этической.
Для меня всё вышеописанное звучит дико. За сотню лет нравы и мораль так изменились, что история этого брака выглядит выпиской из средневековой хроники. Однако это был мир, в котором они жили. И нас от них отделяет всего два поколения. Вас отделяло одно. В старости бывший георгиевский кавалер оказался под каблуком у жены. Он почти не пил, максимум четыре раза в год, на особые даты вроде 9 мая или Лиго. Но выпив, предъявлял жене одну историю из далёкого прошлого. Про русского Ваню. Протрезвев же, снова начинал сильно опасаться жены. Мне описывали, как он лежал с похмелья в кровати и тихо спрашивал детей или внуков, можно ли ему выходить.
У них родилось двое сыновей. Волдемар и Альфред, ваш будущий отец и мой будущий дед. Альфред Крумгольц, сын Августа. В документах нашлось место его рождения – деревня Залесье, Новодубровинский сельсовет, Октябрьский район Гомельской области. Непонятно, почему он родился там, а не в Радино. Ещё была дочь Лория, но она умерла от скарлатины в оккупацию, совсем маленькой. Ей было всего три года. Мария начала медленно двигаться по партийной линии, дошла до весьма скромного поста секретаря сельсовета. Потом произошло событие, после которого начинается документированная история семьи. Репрессии и бегство.
Будучи с детства просоветски настроенным, в течение многих лет – яростно просоветским, я всегда считал, что национальный миф латышского народа должен быть «левым» и строиться вокруг латышских красных стрелков и советского периода истории Латвии. В отличие от неизвестного вам современного, «правого» мифа, основанного на идеализированной Первой республике, «лесных братьях» и, во многом, истории Латышского легиона СС. Мне до сих пор эта концепция кажется логичной, но я не знаю, как в неё можно безболезненно включить чистку. Истребление элиты советских латышей. Понятно, что бывшие красные стрелки стали сильной и сплочённой внутрипартийной группировкой, с которой стоило считаться. Вот и сосчитались. Но любые рациональные и циничные доводы меркнут перед безумием расстрела латышского театра Скатувэ в полном составе. В один день, 3 февраля 1937 года, вывезли на Бутовский полигон и закопали буквально всех, от начальства до последнего актёра. Это невозможно забыть. Как можно пропагандировать творчество блестящего художника и пропагандиста Густава Клуциса, не упомянув в конце его арест в 37‑м за «шпионаж в пользу буржуазной Латвии» и смерть в тюрьме? Правда, эпизод с бегством нашей семьи произошёл куда раньше великой чистки, так что мы можем только гадать, что было бы с ними, останься они в колонии до конца тридцатых. В 37‑м в каждой крупной латышской общине Советского Союза искали организации шпионов и вредителей. И успешно находили. Но наших с вами предков там уже не было.
Устная история рассказывает этот эпизод без прикрас. В один прекрасный момент мой прадед убегает из Белоруссии на Донбасс, вместе с семьёй, бросив всё. Примерное время бегства – начало тридцатых. Мой дед, ваш отец, родился в 1929‑м, но на первых фотографиях с Донбасса он совсем ещё маленький. Исторические источники сообщают, что в 29‑м году началась коллективизация в латышских колониях, причём многие латышские крестьяне воспринимались местными как «кулаки». Точно известно, что Янис Томсон в колхоз не пошёл. Но он за это не был арестован. Был арестован другой родственник, Карл Вейс, муж вышеупомянутой Анны Томсоне. Точная причина неизвестна. И неизвестно, за что ваша бабушка и моя прабабушка попала в список. Известно только то, что она каким-то образом про этот список узнала и не стала дожидаться неизбежного.
Вопрос в том, каким было это неизбежное. Времена ещё были сравнительно травоядными. В 1924‑м первый состав латышского сельсовета был отдан под суд по обвинению в «кулацкой линии». В 1923‑м возникла комиссия по очистке транспорта от «подозрительных элементов и агентов польской, латвийской, литовской, румынской и финской национальностей». В 1927‑м была подобная чистка на Московско-Белорусско-Балтийской железной дороге, но вместо арестов ограничились увольнениями. Только от угрозы увольнения не убегают.
Так и начинается точно известная часть нашей с вами истории. Она начинается на Донбассе. На шахте № 13, Никополь-Мариупольской, сейчас известной как Куйбышевская. Именно там начинает работать новый шахтёр, Август Крумгольц.
В Великую Отечественную бывший обладатель Георгиевского креста пошёл рядовым в пехоту. Получил медаль за отвагу, был ранен под Кёнигсбергом. Пуля попала в руку и отстрелила один палец. Медалью за взятие Кёнигсберга очень гордился. На фотографии с медалью у него большие усы. Это делает его похожим там на меня, у меня тоже усы, только с бородой. И очень похожие надбровные дуги. Взгляд на фотографии всё тот же, уверенный и весёлый. Позади фотографии записка на русском, для детей. О том, что скучает.
Он привезёт с фронта трофейную швейную машинку «Зингер». Никогда не будет рассказывать ничего про войну. Не будет хвастаться или разоблачать неизбежную в любой войне грязь. Но каждое 9 мая для него будет важнейшим праздником. Даже умирая, он будет выходить на парад. Если не мог идти, то стоял возле ЛРЗ и приветствовал проходивших.
После войны он снова нашёл свою семью, остававшуюся в Донбассе, под немцами. Он тоже попал ненадолго под оккупацию, в 1941‑м. Марию приняли тогда за еврейку и чуть не расстреляли. Она ведь была смуглой брюнеткой, хоть и чистокровной латышкой. Знаете, ваша жена и моя мать тоже считает её еврейкой, соответственно, считает вас на четверть евреем и нас с братом на одну восьмую. Они жили под оккупацией недалеко от краснодонской шахты № 5, куда скинули трупы членов Молодой гвардии.
В 1947 году начался последний этап этого бесконечного путешествия. Семья Крумгольцев возвращается на родину предков. В Латвийскую Советскую Социалистическую Республику.
Пожалуй, можно сказать – домой.
Скорее всего, границу Латвийской ССР пересекла уже семья Крумгольдов. Мы приближаемся к ещё одной загадке этой истории. Изменение фамилии. Естественно, случайное. Ошибка на одну букву при изменении паспорта плюс нежелание ругаться с бюрократами. Такая ошибка вполне возможна, «ц» по написанию похожа на «д». Только непонятно, когда именно она произошла. В семейном предании уверенно называется 1961 год, когда ввели новые паспорта. Только это означало бы, что вы родились ещё Крумгольцем. В сохранившихся с сороковых-пятидесятых документах – полная каша, в одних ваш отец Крумгольц, в других – Крумгольд. Если их сопоставить, то получается, что он оставался Крумгольцем до конца войны. Письма на фронт идут Крумгольцу, но разрешение на возвращение в Латвию выписано на Крумгольда, и латвийские документы конца сороковых уже содержат новую фамилию. Есть две юбилейные медали, как ветерану. Одна выписана на Крумгольда, вторая – на Крумгольца. Вторая была позднее. Я по собственному опыту жизни в Британии знаю, какие чудовищные варианты могут возникнуть из попытки чиновника записать экзотическую фамилию, сам несколько лет плачу council tax как Raymond Kromgoles. Только замена «ц» на «д» возможна лишь там, где в ходу кириллица, в латинице ничего общего между буквами нет.
Ещё сильнее смущает то, что бюрократическая ошибка перешла и на детей, по крайней мере, на одного ребёнка. Ваш дядя, брат моего деда, либо не менял фамилию, либо вернул впоследствии. Он умер на Сахалине Крумгольцем. На могилах прадеда и деда написано «Крумгольд». Более того, от донбасского периода осталось несколько фотографий. На них всё тот же человек. В подписи на обратной стороне одной из них видна буква, похожая скорее на «д», чем на «ц». Возможно, он уже в начале тридцатых даже в личных записках предпочитал подписываться Крумгольдом? Но там действительно трудно различить последнюю букву.
Проверка подписей всё ещё больше запутывает: на ранних документах это именно невнятная подпись. На поздних – ясно и старательно выписана новая фамилия, с «д» в конце. Всё это очень похоже на запутывание следа. Не новая, выдуманная биография, а правдоподобное изменение фамилии, затрудняющее возможный поиск. По крайней мере, я сам не представляю себе ситуации, при которой я в личной переписке подписывался бы Кромголезом. Только такое запутывание было бы объяснимо в тридцатые, во время бегства. Нет ни малейшего смысла трансформировать фамилию после войны. Вариант объяснения – в Латвию нашу семью пригласил Эрнст Томсон, родной брат Марии. Эта ветвь семьи уже вернулась на историческую родину и вполне освоилась на месте. Благодаря их помощи Мария даже устроилась работать директором детского дома, хотя продержалась только год, уволившись в связи с конфликтом с местными. Фактически это было воссоединение семьи, разбежавшейся от репрессий. Могли ли они слегка подстраховаться? Не знаю.
Мне бы очень хотелось спросить у вас, что вы знаете об этой истории. Никто из живущих сейчас не может ничего мне прояснить. Но вы точно общались со своим дедом, возможно, он хоть что-то вам рассказал. Жаль, что вы ничего про это не написали. У вас, правда, есть один текст, написанный от имени солдата, вполне возможно, по мотивам воспоминаний вашего деда.
Если бы они остались в Украине, то кто-то, родившийся вместо меня, с частично совпадающими генами, сейчас, скорее всего, воевал бы в очередную гражданскую. Или был бы беженцем. Ещё одна вещь, которую было бы невозможно сразу объяснить, если бы это был реальный разговор. В ваше время могло употребляться только словосочетание «на Украине». Сейчас там воюют как раз с теми, кто до сих пор употребляет «на» вместо «в». Мир, в котором я живу, показался бы вам бредом.
Ваши родители встретились в Латвии, в послевоенные годы. Это было место, пропитанное свежей кровью. За время войны были уничтожены почти все евреи. Без газовых камер, вручную, расстрельными группами. Газовые камеры были потом. В нашем с вами родном городе евреев со всей округи собрали в гетто в Крепости. После чего по категориям собирали и уводили в Погулянский лес, где просто расстреливали. Войну пережило человек сто. Сохранился отчёт Карла Ягера, руководителя айнзацкоманды 3 айнзацгруппы А, в котором были приведены точные цифры. 137346 в целом, из них 9585 в городе Динабурге за период с 13 июля до 21 августа 1941 года. Жуткое совпадение: эти даты приходятся на месяц гекатомбеон, период массовых жертвоприношений в античной Греции. Хотя рациональная часть моей натуры напоминает мне, что пик бойни пришёлся уже на конец августа. Между прочим, вы родились 16 августа, сразу после завершения этого месяца. Для вас такое совпадение вряд ли имело бы значение, но для меня это действительно интересный факт. В любом случае, без всякой мистики, там была бойня. Судя по пометкам, с этим отчётом ознакомился лично Гитлер. Другим нациям тоже досталось, в Латгалии были и хутора, сожжённые красными партизанами, и деревни, сожжённые полицаями. Но евреев вырезали под корень.
Однако в глухой латгальской провинции всё было тихо.
Немцы вели себя спокойно. Даже доброжелательно. В районе не было партизанских отрядов, это не Белоруссия. И евреев практически не было. У Вермахта просто не было повода показать своё истинное лицо. В деревне стояли замаскированные танки и пушки, в школе был штаб. С подходом советской армии они отступили без боя, поэтому деревня совершенно не пострадала. Крестьяне просто пережили момент очередной смены власти, скрываясь в лесу со всем скотом. Они очень боялись Красной армии. Немецкая пропаганда была крайне эффективна в этих краях. Отсутствие зверств против местного населения плюс рассказы о зверствах противника. Газеты с карикатурами на Сталина и тому подобное. Люди реально ждали резни. Но первые части Красной армии оказались латышскоговорящими, из советских латышей. Их ввели на территорию Латвии для успокоения местного населения. Может быть, среди них был ваш отец, этого я не знаю. Они объяснили, что нечего бояться. Так и случилось, никаких реальных репрессий не произошло. Только в 1947‑м, во время депортации, выслали в Сибирь одну «кулацкую» семью. Они вернулись уже после смерти Сталина. Глава семьи отрастил густую бороду и наглядно показал, что сибирские холода не убили способность к коммерции, заработав неплохие по советским меркам деньги на продаже в Даугавпилсе яблок из своего сада. Да, даже одна несправедливо высланная семья – это слишком много. Но нужно признать, что и в самые бурные годы эта деревня оставалась тихой гаванью.
Семья Муканс тоже не видела ничего плохого в советской власти. Франсис Муканс поддержал колхозы: для бедного крестьянина это были положительные изменения. Про отношение к символам старой власти многое говорит тот факт, что они сшили для своей дочери платье из красно-бело-красного флага, оставшегося от Первой республики. При этом их соседи прятали такой же флаг с риском для свободы.
Ваша будущая мать, Янина Мукане, дочь Франсиса, училась в советской школе, потом поступила в университет. Несмотря на современные представления, латышская культура вовсе не запрещалась в послевоенной Латвии. С расстрела театра «Скатувэ» прошло около двадцати лет, нравы смягчились. Знаете, в моё время люди очень удивляются, когда видят фотографию Янины Францевны и её одноклассниц в латышских национальных костюмах. Они просто не верят в то, что это фотография конца сороковых – начала пятидесятых.
Не был на тот момент запрещён и языческий праздник Лиго. Потом, конечно, будет попытка побороться с предрассудками. Насколько я знаю, это всерьёз началось при Хрущёве. Естественно, безрезультатно – важнейший праздник года невозможно отменить указом и патрулированием на лодках в поисках нелегальных костров. Здесь я снова ухожу немного в сторону. Не знаю, как вы относились к Лиго и праздновали ли вы его вообще, но для меня это важный день. Столетия христианства не справились с традицией празднования ночи солнцестояния. Точнее, ночи на 23 июня – астрономическое солнцестояние обычно происходит в районе 21–22 июня. В любом случае, это однозначно солярный праздник, с кострами всю ночь и прыжками через эти костры, народными песнями, употреблением гигантского количества пива и молодыми парами, отправляющимися в лес «искать цветок папоротника». Этнографически происхождение вышеописанных обычаев очевидно: оно восходит к языческим временам. Балты долго держались языческих традиций, Литва приняла христианство в XIII веке, последней в Европе. Я описываю эти обычаи вовсе не с целью заполнить текст экзотическими подробностями – всё это имеет самое прямое отношение к истории нашей с вами семьи.
Именно на Лиго 1955 года два рода пересеклись между собой. Студентка первого курса Янина Мукане вернулась домой на праздник. Празднование происходило в соседнем районе, туда все ехали на грузовике. В том же грузовике поехал молодой работник райкома и представитель партии в колхозе Альфред Крумгольд. Они праздновали вместе. Назад возвращались пешком. Уже потом Франсис Муканс пригласил комсомольца на дегустацию домашнего пива, он варил его два раза в год. Вся эта цепь событий неизбежно привела к предложению руки и сердца. На второй курс студентка Мукане вернулась с новой фамилией. Крумгольде.
Альфред Крумгольд, сын Августа, был, как уже очевидно, активным комсомольцем. Он ведь, как и вы, родился и вырос в СССР, вся его жизнь, за исключением периода оккупации, прошла в социалистическом обществе. Для его новых сограждан он был чужим, представителем советской власти, приехавшим с востока. Эта чуждость вернулась в старости: после восстановления независимости мой дед оказался негражданином. Ещё одно слово из незнакомого вам мира. То, что он был чистокровным латышом, роли не играло: по закону гражданами Второй республики могли быть только граждане или потомки граждан Первой. К которой семья Крумгольцев/Крумгольдов не имела никакого отношения. Он сдал экзамен, но был оскорблён этим фактом до глубины души. Я был оскорблён вместе с ним.
В сельской Латгалии пятидесятых быть чужим было ещё опасно. Это было время «лесных братьев», партизанского движения латышских националистов, упорно воевавших с новой властью. Люди вроде моего деда были для них идеальной мишенью.
Здесь возникает определённое противоречие. Всё моё детство дед любил вспоминать это время как свою героическую юность. Рассказывал про засады, выстрелы в спину. Как их окружали в доме и приходилось отстреливаться. Показывал шрамы и жаловался на то, что они ноют в плохую погоду. Для него «борьба с бандитизмом» явно продолжала и заменяла Великую Отечественную войну, для которой он был слишком молод. Двенадцать в 41‑м, шестнадцать в 45‑м, минимальная разница с теми, кто воевал. У него была только работа на шахте вместо фронта. Эта борьба хоть в чём-то позволяла ему быть ветераном. Но другие члены семьи говорят, что эти истории слегка преувеличены. Опасность была. «Лесные братья», безусловно, охотились на него. Только это был спокойный район, по-настоящему жёсткая партизанская война была в Курземе. В описываемом районе многие ушли в лес, но скорее с целью скрыться от мобилизации. Леса прочёсывались, людей призывали сдаться. Подростки уходили в лес, когда их отправляли на трудовое обучение, работать на заводе. Сразу возвращались, как только набор заканчивался. Романтические подробности рассказов деда звучали слишком романтически. Наверное, так и есть, но я понимаю его. У него тоже была тихая, скромная жизнь, прошедшая в годы застоя. При этом перед глазами у него был его отец, по биографии которого кино можно снимать. Ему нужно было про что-то вспоминать. Это нужно каждому. Сейчас настоящих ветеранов почти не осталось, и многие люди одного поколения с моим дедом надевают юбилейные медали и играют в героев. Интересно, превратился бы он в кого-то подобного, если бы прожил так долго? У меня нет ответа, я только надеюсь, что нет.
Данные истории сильно повлияли на меня и мои политические взгляды. Когда я заходил в Музей оккупации и видел там образцы вооружения «лесных братьев», то для меня это было оружие, из которого стреляли в спину моему деду. Между нами и ними была кровь. Пожалуй, я объясню, что такое Музей оккупации. Это место в старой Риге, возле памятника красным стрелкам, давно переименованным просто в латышских стрелков, несмотря на звёзды на фуражках. Там стоит музей, посвящённый вашей стране и борьбе против неё. Музей, созданный вашими врагами. Что мне теперь интересно, так это вопрос: почему они стали вашими врагами? Как повлияли истории вашего отца на ваши политические взгляды? Вы ведь наверняка слушали их в течение всего детства. Судя по многим признакам – влияние было схожим с влиянием на меня. Но никто уже не сможет сказать наверняка.
В любом случае, в 1956‑м молодая семья уезжает из сельской местности в Даугавпилс, подальше от мрачных мужиков с обрезами. Жена поступает в педагогический институт, готовится к роли преподавательницы латышского языка. Молодой муж идёт работать на Локомотиво-ремонтный завод. В нашей истории снова возникает загадка, малообъяснимый момент. Молодой комсомолец был на хорошем счету у начальства, что неудивительно, если вспомнить, на каком плохом счету он был у «лесных братьев». Поэтому ему предложили поехать дальше, в Ригу, и поступить в Высшую партийную школу. Это было предложение, от которого не отказываются. Перспективы открывались головокружительные. Но тут в дело вступила его мать. Она категорически, со скандалом, запретила сыну поступать в эту школу. Потребовав от него, чтобы он остался с ней. И он согласился. Его отказ от предложения вызвал скандал, ему пришлось лгать, утверждая, что его жена беременна и ему необходимо содержать семью работой на заводе. Она ещё не была беременна – до вашего появления на сцене ещё оставалось немного времени. Но все декорации вашего детства, более того, вашей жизни были созданы этим странным решением.
Мне действительно интересна эта ситуация. Рассказывая про неё сейчас, все пытаются объяснить её обычным самодурством волевой женщины, решившей сохранить рядом с собой сына. Но я, слушая эту историю, вспоминаю про секретаря сельсовета, нашедшего свою фамилию в списке. Мне кажется, это был страх. Через двадцать лет после тех событий и через четыре года после смерти Сталина человек по-прежнему боится партийной карьеры. Боится партии.
Будь эта книга художественной, можно было бы придумать множество романтических причин, вроде страха разоблачения некой тайны, скрытой в прошлом и способной всплыть в ходе проверки досье кандидата. Но мне кажется, всё могло быть гораздо проще. Это были люди, выжившие в самые кровавые годы, сумевшие проскользнуть невредимыми между винтами мясорубки. И благодарить за это они должны свою готовность уходить в тень, ложиться вовремя на дно, не привлекая лишнего внимания. В сталинское время было действительно опасно привлекать к себе внимание, так что это была очень эффективная жизненная стратегия. Но всё хорошо вовремя: за двадцать лет до описываемых событий подобное решение могло спасти жизнь. Более того, скорее всего, оно и спасло. Но через четыре года после смерти Сталина оно выглядело бессмысленным капризом. Капризом, который не принёс ничего хорошего.
Альфред ведь был искренним коммунистом, это был бы его путь самореализации. Но он остался в провинциальном городе. На старом заводе. Слесарем. Потом мастером. На одном месте. До самой смерти. Неудивительно, что он начал пить. Он не был настоящим алкоголиком, и я не знаю, каким его помнили вы. Но вспоминая его старость, я его помню обычно не очень трезвым. И рассказывающим бесконечные, повторяющиеся истории. О том, как в него стреляли. И о том, как один раз его, боксёра-любителя, поставили на ринг против профессионала. Он, конечно, проиграл. Но всё-таки сумел врезать противнику. Когда он это вспоминал, в его голосе звучала гордость.
Оставшись на заводе, он начал строить дом. Это было логичное решение: рабочие, которым требовалась квартира, после смены отправлялись на строительство нескольких домов прямо на холме над заводом. Он тоже так работал, вторая смена после первой. Всё, связанное с электричеством, было на нём, плюс обычные задачи строителя. Потолок получился слегка косым, но дом выглядел уютно. Несколько минут до проходной, если спуститься по бетонной лестнице. Сперва я написал – «гигантской бетонной лестнице», но потом я ещё раз приехал в родной город и прошёл по «церковной горке» с видеокамерой. Всё оказалось совсем небольшим и уютным, почти игрушечным. Моя память всё сохранила иначе. В ней по-прежнему бесконечно длинная лестница, ведущая к проходной и к Дому культуры ЛРЗ. Декорациям вашей жизни и моего детства.
Так у нас появился дом. В этой квартире под номером семь в доме номер восемь на улице Марияс вы проживёте всю свою жизнь. Я буду там жить до двадцати лет. Бежать оттуда. Возвращаться. Пока не сделаю всё, чтобы продать эту квартиру и забыть о ней как о страшном сне. В редкие приезды в Латвию я стараюсь найти время и зайти туда. В маленькое место, которое было для меня всем миром. Смотрю на новые окна. На новую дверь. Обычно не ощущая никакого желания зайти туда. Хотя в последний прилёт на родину у меня появилось искушение позвонить. Только ради возможности снова посмотреть на знакомый ракурс из окна. Я не позвонил, не решился. Но недавно мне снова приснился вид из окна моей старой спальни.
Знаете, там до сих пор в списке жильцов на стене в коридоре значится Марина Крумгольде. В этом доме всё ещё осталось нечто от нашей семьи.
Улица Марияс очень маленькая. На ней домов десять. Заканчивается тупиком. Сбоку идут гаражи, под которыми, под обрывом – огромный завод. Он казался тогда бесконечным. За заводом – старая тюрьма «Белый лебедь». Есть старая цветная фотография начала ХХ века, сделанная Проскурдиным-Горским. На ней видны три из четырёх церквей, скопившихся на «церковной горке». И около них два новых красных дома, рядом с развалинами которых я проведу своё детство. Уже потом, через много лет, я окажусь на экскурсии по родному городу для его гостей, и узнаю, что жил в месте, куда привозят туристов. Что это – самое высокое место в городе, пересечение всех основных латгальских конфессий. Рядом стоят старообрядческая и православная церкви, лютеранская кирха и огромный белый костёл. В кирхе, хорошо видной на той фотографии, при советской власти будет боксёрская секция. Именно там будет заниматься боксом мой дед и ваш отец. Там же его отпоют при Второй республике.
Это место уже попало в историю советской литературы. В несохранившемся деревянном доме возле кирхи провёл детство Леонид Добычин. В «Городе Эн» описано, как возникла «церковная горка», как одновременно строились церковь, костёл и беспоповская старообрядческая молельная. Он же описывал, как ранним утром в мастерские на месте будущего ЛРЗ шли рабочие и как длинный гудок возвещал начало забастовки 1905 года.
Эти мастерские по ремонту паровозов уже видны сбоку на вышеописанной фотографии. Но не видно гигантского обрыва, возле которого мы жили. Оттуда иногда поднимался чёрный дым, от которого было невозможно отмыть стёкла. По ночам там звучал жуткий шум. Я тоже пытался устроиться на этот завод. Безрезультатно. Но я никогда не забуду путешествие мимо огромных цехов, с грохотом оттуда и покрытыми мазутом рабочими на улице. Мне потом довелось быть простым рабочим – год на Химволокне. Но я знаю, что отсутствие опыта работы конкретно на ЛРЗ не позволяет мне понять в полной мере деда и вас. Это был ваш мир. Мир, на который я посмотрел только со стороны.
Теперь предварительная история закончена. Все линии сведены в одно место. Всё готово к вашему рождению. С этого момента я начинаю рассказывать известную мне версию того, что вы пережили на самом деле. Уверен, что если бы мы реально сейчас разговаривали, то вы бы перебивали меня на каждом слове, объясняя, в чём я не прав. Главное, мы бы тогда говорили друг с другом на ты.
Когда вы ещё были в утробе матери, произошло довольно символическое событие. Ваши родители поехали в Москву. Естественно, посетили Мавзолей. В Мавзолее тогда ещё лежал Сталин.
Вы родились 16 августа 1958 года. В городе Даугавпилс. Фактически вы первый реальный даугавпилчанин в этой книге. Это тоже важно, Даугавпилс – особое место. Он находится на территории Латвии, но никогда не был латышским. Сперва это была тевтонская крепость Динабург, названная в честь реки, на которой он стоял. Реку немцы называли Дина. Русские сперва экспериментировали с названиями, в Лифляндскую войну город короткое время побывал Борисоглебском и Невгином. Потом взяли пример с предыдущих хозяев и назвали в честь всё той же реки, Двинском. Русским эта река известна как Западная Двина. Латышам – как Даугава, так что с началом Первой республики город получил своё нынешнее название. Советская власть прекратила эту чехарду, поэтому город остаётся Даугавпилсом уже почти сотню лет. Но латышское название вовсе не означает латышской сути.
В Российской империи Двинск попал в черту оседлости. Есть замечательная книга Теофиля Готье «Путешествие в Россию». На обратном пути он проезжал через Двинск, описанный в тексте как невероятно грязное и мрачное место, в котором, однако, ему встретилась прекрасная еврейка. Когда я прочитал эту книгу, ребёнком, в городской библиотеке, у меня впервые появились мысли о том, что в этом городе что-то случилось. В моё детство евреев там почти не осталось. Городская синагога была чисто символическим местом, прихожан там был минимум.
Двинск начала ХХ века хорошо описан у Леонида Добычина в уже упоминавшемся «Городе Эн». В нём родился Марк Ротко. Скрывался после одного из терактов Савинков. В гражданскую побывал Эйзенштейн. Именно под Двинском он увидел поле, полное неубранных после боёв скелетов, столь повлиявшее на его творчество. Процент латышского населения в Двинске был буквально процентом. Одним процентом.
Город, в котором вы родились, был совершенно другим, хотя и стоял на том же месте.
В Первую республику город пытались сделать более или менее латышским. Небезуспешно: в какой-то момент доля латышского населения увеличилась до тридцати процентов, за счёт перемещения в город государственных служб вместе с чиновниками и военных частей. Потом была великая бойня.
После Холокоста про еврейскую историю города напоминали лишь затёртые звёзды Давида на некоторых старых домах. Старых домов тоже осталось мало, город был сильно разрушен в последний период войны. Но еврейское население убили раньше. Мне ничего не рассказывали про это в детстве: никого из моих родственников не было в этот момент в городе. Большинство даже не жили в Латвии. Дед любил, напившись, повторять смешное стихотворение со словами: «Зачем мне считаться шпаной и бандитом, / Не лучше ль податься мне в антисемиты: / На их стороне, хоть и нету законов, / Поддержка и энтузиазм миллионов». Уже потом я узнал, что это текст Высоцкого. В любом случае это была шутка и воспринималась как шутка.
Я слышал только разговоры о том, что играя в песчаных карьерах, можно найти человеческие кости. Однако я был тихим, домашним ребёнком и в таких далёких местах, как Погулянка, никогда в то время не бывал.
Уже потом, через десятилетия, наша семья увеличилась на старообрядческий род, живший на одном месте столетиями. И от родственников своей жены я узнал подробности. Один раз евреев вели на расстрел через староверскую деревню, уже превратившуюся к тому моменту в дальний городской район. Охранники приняли игравшего во дворе ребёнка, будущего двоюродного дедушку моей жены, за еврея и затолкали в колонну. Он был смуглым. Мать выбежала во двор, потрясая нательным крестиком. Иногда эту историю рассказывали так, что она завершалась криком: «Хотите стрелять – стреляйте! Только с жидами не хороните!» Старообрядцы до сих пор соблюдают жёсткую сегрегацию. Даже на кладбище. Судя по тому, что её слова поняли и вытолкали ребёнка назад, охранники прекрасно понимали русский язык.
В 1943‑м в Погулянский лес приедет уже другая группа, Sonderaktion 1005. С опытом сжигания трупов двухлетней давности и специальной машиной для перемалывания костей. Они хорошо поработали – точное место уничтожения никто не мог найти десятилетиями. Случайно нашли только после вашей смерти, в 1989 году. Человек проходил по лесу, наступил ногой на песчаный холмик и увидел человеческую кость. Скорее всего, именно эта история в виде слухов дошла до меня в детстве, мне тогда было семь лет. Есть документальный фильм «Еврейское кладбище», в котором показано, как выкапывали эти кости и хоронили в мемориальном комплексе в Погулянском лесу. Вы наверняка должны были знать этот комплекс, его построили в 1960 году, по советской традиции превысив на табличке число на несколько порядков. Их было, конечно, меньше. Но всё равно слишком много.
За десятилетие, прошедшее с момента освобождения города советскими войсками, он был отстроен заново. Многие считают этот момент началом второй оккупации, но я предпочитаю термин «освобождение». Вы тоже его предпочитали: от вас осталось несколько стихотворений, посвящённых войне и послевоенному времени. Это хорошие, честные стихи, написанные полностью с просоветской позиции. В них отсутствует даже намёк на существование Первой республики. Это естественно, учитывая историю нашей семьи. Для латышей Вторая мировая была братоубийственной войной, но в нашей семье не было людей, воевавших с той стороны.
Отстроенный город был заново заселён. Новые заводы привлекли людей со всего Советского Союза. Педагогический институт, в свою очередь, обеспечил стабильную долю латышского населения – в районе десяти процентов. Вашу мать и мою бабушку, в принципе, тоже можно внести в эти десять процентов. После того как она закончила институт, оказалось, что её должны распределить. В городе не было рабочих мест по её специальности – преподавателя латышского для старших классов. Только в начальной школе, для которой пришлось бы переучиваться. Она смогла остаться работать при кафедре, потом – в библиотеке. Пошла по культурной линии. То есть вы росли в семье, где отец возвращался в мазуте с завода, а мать – с книгами из библиотеки. Возможно, это как-то повлияло на двойственность вашего образа, столь удивляющую при знакомстве с вашими текстами.
Здесь снова возникает небольшая путаница с именем. Всё моё детство про вас говорили только как про Валдиса. Ваши стихи были подписаны Валдисом (я тогда не замечал, что прижизненные вырезки из газет говорили про Волдемара), друзья говорили про вас как про Валдиса. Но в свидетельстве о рождении и на могильной плите написано «Волдемар». Это и было официальное имя, скорее всего в честь дяди Волдемара, которого, правда, все звали Владимиром. Подростком я не понимал, почему у меня во всех документах стоит «Волдемарович», если я Валдисович. Даже считал, что «Волдемарович» – это сознательное искажение отчества. Меня назвали в честь любимого вами, но ненавистного мне Раймонда Волдемаровича Паулса, и полное совпадение имени и отчества казалось явным перебором. Через много лет у меня появится шанс запустить в Паулса тортом. По политическим причинам, но сама возможность появилась благодаря символическому совпадению имени и отчества. Тогда я счёл себя недостойным такой чести, но пошёл вторым номером, с листовками. Журналисты тогда всё равно обратили внимание на происхождение моего имени. Разумеется, чехарда с разным произношением имён перекинулась и на моё поколение: всё детство я был Ромой. Мой брат Юрис, соответственно, Юрой. Недавно я побывал в Пскове, впервые за 22 года. Мои родственники по-прежнему зовут меня Ромой, для меня это было удивительно. Я не слышал этого имени в свой адрес с детства. Интересно, как бы вы меня называли?
Вы были ребёнком в шестидесятые. Подростком в семидесятые. Чистокровный латыш в русском городе. Сохранилась ваша детская фотография, на обратной стороне – записка бабушке детским почерком. Текст на латышском. Дома вы говорили по-латышски, но во дворе все ваши друзья были, естественно, русские. Поэтому вы отказались идти в латышскую школу на другой конец города. Остались со своими.
Это важный аспект: в ваше время Даугавпилс был разделён по географическому признаку, молодёжь дралась район на район, объединяясь только против курсантов. Город не любил Химию, новый район, заселённый приезжими. Среди них, кстати, был ваш будущий друг Александр Барбакадзе. Он тоже вспоминает про враждебность старых горожан к жителям Химии. Новое Строение держалось особняком, ещё была «кочегарка» вокруг стадиона «Строитель». Ну и улица Марияс была отдельным образованием. Дети рабочих с одного завода, вас в девяностые хватило бы на создание своей бригады. Хотя вы снова не поняли бы значение слов «девяностые» и «бригада». В любом случае, у вас были люди, с кем можно было вместе хулиганить. Вы были частью большой стаи, сплочённой по территориальному признаку. Это первый аспект, в котором мы с вами отличаемся. Я рос один.
Впрочем, шестидесятые – семидесятые были сравнительно спокойным временем. Сравнительно: в моём детстве и юности не было массовых драк район на район, но в плане настоящей преступности моё время явно превосходило ваше. Максимум, что я узнал о хулиганстве в вашем детстве, – это история о том, как, катаясь на санках с горки возле церкви, ваша компания полностью снесла частный забор. Возможно, это всё, что сохранилось в памяти тех, кто ещё может что-то вспомнить.
На упомянутой фотографии вы выглядите абсолютно мягким и светлым ребёнком. Блондин, взгляд добрый. Все, кто о вас вспоминает, подтверждают это впечатление.
Естественно, вы были гуманитарием, вам легко давались те предметы, в которых не нужно было считать. Как и мне – в этом аспекте мы похожи. Рассказывают, что когда вы отвечали на вопросы по литературе или истории, послушать вас приходили учителя из других классов. Всё это, конечно, не помешало вам в подростковом возрасте начать тайком курить и выпивать, как и полагается нормальному подростку. Правда, я этого не делал, но я и не был никогда нормальным подростком, к своему сожалению.
Когда я спросил бабушку, читали ли вы в те годы стихи, она долго смеялась. У вас была одна, но пламенная страсть. Футбол. Либо вы играли, либо болели за кого-нибудь. Горячей страстью вашего отца была рыбалка – дед ухитрился пойти на зимний лёд и что-то поймать, даже умирая на последней стадии рака. Но привить своему сыну любовь к истреблению подводных обитателей он так и не смог. Вы приезжали с отцом на реку, закидывали удочку, брали мяч и начинали тренироваться. Любовь к футболу оставалась с вами буквально до самого конца. Судя по рассказам, вы рассчитывали воспитать из меня великого футболиста. От этой мечты осталась одна фотография с новогоднего карнавала. Я одет там футболистом советской сборной.
Простите, но я бы вас разочаровал: мне никогда не нравился футбол.
Всё изменилось в седьмом классе. Сразу и навсегда, хотя вы сами нескоро об этом узнали. Скорее всего, первый признак болезни появился во время поездки с родителями в Волгоград, к монументу Родины-матери. Вы тогда первый и единственный раз побывали в Москве, проездом. В Мавзолей в этот раз зайти не удалось, его закрыли прямо перед вашим носом. Зато в Волгограде были памятники. Не осталось вашей фотографии на фоне памятников, только отец и мать на фоне одного из второстепенных монументов. Скорее всего, вас нет в кадре потому, что вам уже стало плохо. Была сильная жара. Вы внезапно побледнели и упали в обморок. Вас пришлось срочно унести в гостиницу. Никто тогда не предположил, что это может быть признаком чего-то по-настоящему серьёзного. Это открылось через несколько месяцев.
Перед экзаменом по нелюбимой, естественно, математике вы решили попытаться уйти на больничный. Повод нашёлся – странные шишки, вскочившие на шее. К вашему удовольствию, медсестра восприняла эту угрозу всерьёз. Немедленно взяла анализы и отправила в Ригу. Ответ оказался худшим из возможных. Онкология. Лимфогранулематоз. Рак лимфоузлов.
Вам было тринадцать. Согласно прогнозу, жить вам оставалось месяцев шесть. Естественно, вам самому об этом не сказали ни слова. Ваша жизнь принципиально изменилась: с того момента вы проводили большую часть своего времени в Риге, в больнице. Учиться вы могли лишь несколько месяцев в учебном году, поэтому вам пришлось перевестись на вечернее отделение. Бабушка уверяет, что вы сами ни о чём не догадывались. Добрый и общительный ребёнок, знавший два языка, вы быстро освоились в новой среде. Доктора вас очень любили и старались сделать всё, чтобы облегчить вам жизнь. Несмотря на постоянные химиотерапии, вы так и не узнали, от чего вас лечат. Задачей семьи было сохранять весёлый и оптимистичный вид, невзирая на любые новости и анализы. Задача была выполнена успешно.
Через много лет эта ситуация повторилась. У вашего отца во время стандартной операции нашли рак лёгких в последней стадии. Думаю, это говорит о генетической предрасположенности. Его вскрыли, посмотрели на область поражения, зашили и отправили домой, умирать. Не сказав ему ни слова. Снова вся семья скрывала правду, изображая оптимизм. Он так и умер, не узнав, что с ним происходит. Радовался тому, что получил серьёзную группу инвалидности с прибавкой к пенсии.
Это был первый раз, когда я наблюдал смерть в режиме реального времени. Без всякого хосписа и помощи профессионалов. Дома, на кровати. Запах гнилой крови. Необходимость повернуть его, чтобы он мог помочиться в банку. Ваш рак был другим, тихим и не настолько эффектным.
Обман длился до 1975 года. Вы проводили в больницах столько времени, что фактически получили самообразование. Это не мешало общаться с пацанами во дворе и по-прежнему обожать футбол. Ваше состояние здоровья не позволяло вам всерьёз заниматься спортом, но у вас был младший брат. Андрис, он же Андрей. Буквально с шести лет вы начали натаскивать его на роль вратаря, играя с ним в мяч прямо в нашей старой квартире. В итоге он поступил в спортивную школу. Для детей его возраста было необычно сразу вставать на ворота, не требуя себе более эффектного места на поле. Успешно учился и играл – если бы не травма, в связи с которой пришлось пропустить определённое время и выйти из числа лучших вратарей, он бы вполне реализовался в качестве спортсмена. То есть он бросил в итоге футбол, но у вас почти получилось. Эта история лишний раз убеждает меня в том, что если бы вы воспитывали меня, то я бы не миновал спортивной муштры. Учитывая мою природную неуклюжесть, вы бы со мной намучились.
После школы вы поступили в техникум. Это был реальный шанс получить среднее образование, но вскоре вы совершили тактическую ошибку, пригласив на дискотеку в этом техникуме своих друзей. Между учащимися техникума и компанией с Марияс была давняя вражда. Самый короткий путь из техникума на дискотеку в ДК ЛРЗ был через улицу Марияс, но ребята из техникума были вынуждены идти длинным путём, в обход. Просто ваши друзья их били по мере появления в зоне досягаемости. Не знаю, участвовали ли вы сами в этих драках. Вас вспоминают как тихого человека, по крайней мере в этом плане. Несмотря на отца-боксёра, вы сами боевыми искусствами не увлекались и в первый ряд в бою не лезли. Впрочем, трусом вас тоже никто не называет.
В любом случае, вы привели на дискотеку двух своих дворовых друзей. Там в них узнали обидчиков. Завязалась потасовка, преподаватели постарались всех разнять и вывести незваных гостей. Однако мстители последовали за вами. Пока не зашли слишком далеко и внезапно не потеряли численное преимущество. В драке пострадали не только ученики техникума, но и преподаватели. Не знаю, каким было ваше реальное участие в этом эпическом побоище, но по итогам состоялся товарищеский суд. Вас признали виновным в провоцировании ситуации и исключили из техникума. Мне это решение кажется совершенно несправедливым.
С достижением совершеннолетия скрывать происходящее стало невозможно по юридическим причинам: вас больше нельзя было оперировать без вашего согласия. Тогда появилась новая методика – удаление селезёнки. Это позволяло очистить кровь и давало общее облегчение. В тот момент, когда вам это предложили, вы узнали всё.
Вы отказались от операции и убежали из Риги. Вернулись в Даугавпилс, и про последовавшие две недели бабушка говорит ровно одно слово. «Ад». Внешне всё было пристойно, вы не буянили, просто впали в сильнейшую депрессию. Лежали и смотрели в потолок. Читали. Думали. Судя по всему, именно в этот период в вас впервые появилась тяга к алкоголю как к способу забыться. Всерьёз вы начали пить позднее, после операции, но понятно, что эти две недели были для вас решающими. Вся ваша предыдущая жизнь оказалась иллюзией. Все ваши планы на будущее оказались лишь фантазиями. Нет причин поступать в институт. Нет права идти в армию. Вы уже умираете. Уже почти мертвы. Ваша болезнь неизлечима, и врачи могут лишь попытаться оттянуть неизбежное. Вы столкнулись с собственной смертностью совершенно неподготовленным, и эта встреча вас раздавила. Как и любого бы на вашем месте.
Я не знаю, что вы обдумали и пережили. Никто не знает, про это могли бы сказать только вы сами, но в ваших сохранившихся стихах нет ни одного упоминания про ключевой момент вашей жизни. Хотя все ваши тексты возникли как результат этого переживания. В вашей тетради с черновиками остался один текст про болезнь. Про память и боль, но в нём описывается момент уже после операции, когда стало ясно, что новое лечение вполне успешно и кто-то другой в будущем переживёт меньше боли, чем вы. Это единственный текст, в котором вы ссылаетесь на этот ад. Вы его нигде не опубликовали.
Одно ясно. Вы в итоге согласились на эту операцию. Судя по тому, что вы прожили после этого ещё десять лет, это было правильное решение. И я лично наверняка жив только благодаря этому решению. Камю был прав, когда сформулировал, что главный вопрос философии заключается в том, стоит ли жизнь того, чтобы её прожить. Вы решили прожить оставшееся вам время, вопрос только в том, как именно. Ответ был простым. Как все. По возможности как все.
Мать рассказала мне, что вы тогда влюбились и именно эта влюблённость убедила вас в необходимости жить дальше. Она описывает ту женщину как совершенно невзрачную, даже не может вспомнить её имя.
Когда вам оформляли инвалидность, вы потребовали, чтобы группа инвалидности позволила вам работать. Это было очень сложно, ведь вы были человеком со смертельной болезнью и уже без селезёнки. Но вы нашли более чем убедительный аргумент для своей семьи. Дескать, если вам не дадут разрешение работать, то вы просто купите гроб, поставите его посреди комнаты, ляжете в него и будете ждать смерти. Вполне готовый в случае необходимости ускорить процесс. Естественно, ваша мать сделала всё для выбивания нужных бумаг. Получив разрешение работать, вы идёте (поставленным пафосным голосом) по стопам отца. А именно, устраиваетесь на Локомотиво-ремонтный завод, возле которого прошло всё ваше детство. Это было летом, в жуткую жару, поэтому вас, как человека с серьёзным диагнозом, сперва не пускают в цех. Несколько месяцев вы сидите на проходной. Высокий и сильный молодой мужик делает работу пенсионера – естественно, вы выслушиваете множество ироничных или злых комментариев на эту тему от проходивших рабочих. Понятно, что вы не объясняете никому причину, по которой вас поставили на эту работу. Осенью, при первой же возможности, вы идёте в цех. Становитесь слесарем-ремонтником. Теперь вы будете возвращаться домой уставшим, покрытым мазутом с ног до головы. Зачастую пьяным. Очень пьяным.
Как видим, вы влились в коллектив. Внешне стали абсолютно стандартным, ничем не выделяющимся советским рабочим. Вопрос только в одном: были ли вы таким рабочим на самом деле?
Здесь возникает проблема восприятия. В наше время от хорошего поэта подсознательно ожидают нонконформизма. Некоего бунта, автономности. Поскольку вы в будущем станете очень хорошим поэтом, я жду от него именно такого поведения. Через много лет после вашей смерти ваш знакомый Алексей Соловьёв в своей статье для журнала «Невгин» привёл слова «зима была холодной, и в ульях замерзали пчёлы» как пример описания эпохи застоя, в которой задыхался поэт. Ведь поэт должен, даже обязан задыхаться в эпоху застоя. Исходя из этой логики, ваше стремление влиться в общий строй можно назвать конформизмом.
Всё, что я о вас знаю, говорит о вашей искренней лояльности советской власти. Хотя я сам был крайне просоветски настроен, один аспект вашей истории внезапно очень огорчил меня. Это было достаточно давно. В очередном разговоре о прошлом мне рассказали, что вы были народным дружинником. Это было ещё приемлемо, но то, что вы участвовали в патрулях 18 ноября, в день независимости Первой республики, меня неприятно удивило. Латышские националисты, естественно, устраивали возложения цветов и прочие символические акции. Нужно было поддерживать порядок.
Понимаете, когда я про это узнал, то, к своему удивлению, понял, что могу себя представить только на месте этих латышских националистов. Несмотря на всю мою враждебность к построенному ими государству, я мог себя поставить только на место тех, на кого охотятся. Только тогда я осознал, что в моей жизни никогда не было опыта лояльности к своей стране. Даже самого ощущения, что страна, в которой ты живёшь, – своя. Возможно, это и есть тот момент, которого я никогда в вас не пойму. Который мешает мне вас понять.
Впоследствии, расспрашивая родственников, я узнал ещё более шокирующую версию этой истории. По словам человека, который вас хорошо знал, это патрулирование было формой внештатной работы на КГБ. Вас туда послали от партии, как надёжного товарища, и это было предложением, от которого не отказывались.
Более того, вы не просто патрулировали – один раз вы участвовали в задержании. Это было 18 ноября, хотя неясно, какого года. Возможно, 1977-го. Либо позднее, в 1981–1982‑м. Это были заметные дни в политической истории Даугавпилса. Сперва, в 1977 году, на Даугавпилсском педагогическом университете был вывешен красно-бело-красный флаг. Через три года то же самое появилось на Доме единства, который в ваше время был Домом культуры № 1. Ещё через год – на ТЭЦ. Впоследствии я говорил с журналистом одной из городских газет, утверждавшим, что он участвовал в последней акции. Наверняка преувеличивал: сейчас хорошо известно, кто был организатором и исполнителем в одном лице. Янис Расначс, латышский крестьянин и патриот уничтоженного на тот момент государства. Он много лет регулярно вывешивал флаги. Ни разу не попался. Но есть вероятность, что тот журналист имел в виду нечто сопутствующее вывешиванию флага. К примеру, скандирование лозунгов.
Просто в один из этих дней на улице, возможно на площади, другой человек начал скандировать: Lai dzīvo brīva Latvija! («Да здравствует свободная Латвия!») Возможно, он попытался развернуть символику, но не успел. Его задержали. Его задержали вы.
Меня много раз задерживали внештатные сотрудники Полиции безопасности за участие в похожих акциях. У меня были диаметрально противоположные лозунги и совсем другая символика. Но я в принципе не могу себя представить на вашем месте в тот день. Только у вас была совсем другая картина мира – для вас в этом событии не было никакой моральной проблемы. По крайней мере, с вашими близкими вы говорили про него весёлым тоном, чуть ли не хвастаясь своим участием в поимке провокатора и возможного шпиона.
Другой момент. Вы, как активный комсомолец, лично писали все эти безумные пропагандистские письма американскому президенту на тему миролюбивой политики Советского Союза. Писали и, судя по всему, искренне верили в написанное. Если бы это был настоящий разговор с вами, причём с вами из семидесятых, то фраза про безумные письма прозвучала бы оскорбительно. Но я ничего не могу с собой поделать: когда я смотрю старую хронику с пафосным вещанием про очередное открытое письмо, то для меня это выглядит как эпизод из жизни на другой планете. Возможно, дело в том, что я воспринимаю все эти речи как чистое лицемерие. Я знаю, что будет потом, поэтому не верю в искренность деклараций. Но вы не знали того, что в реальности надвигается на вашу страну и на ваш мир. Судя по всем признакам, вы действительно верили в то, что говорили.
В вашу искренность я верю: я нашёл в черновике совершенно чудовищные (простите за откровенность) в своём пафосе стихи про колонны со словом «Мир» на знамёнах, которые идут смыть «волной ненависти» войны с Земли. И про матерей, которые боятся, что некий маньяк на Западе нажмёт кнопку. Вы в это настолько верили, что записывали в рифму и никому не показывали.
Поэтому я часто думал и думаю о том, каким бы вы стали, если бы не умерли. Сохранили бы вы лояльность прежней власти? Или сменили бы взгляды вместе со своей семьёй и большей частью своего поколения? Один раз мне даже приснился сон, впервые за все эти годы, в котором вы ожили. Там мы разбирали старые вещи, ещё на старой квартире. Раскрыли некий стенной шкаф под потолком, никогда не существовавший в реальности. В шкафу лежали вы. Вы раскрыли глаза, и я повёл вас наружу, знакомить с нашим миром. Вывел на улицу – и проснулся, в твёрдой уверенности, что мы бы стали чужими друг другу людьми. Возможно, ответ на мой вопрос скрывался в тех пометках к статьям Сталина. Скорее всего, ответа нет и быть не может. У вас практически не было шансов дожить даже до тех лет, до которых вы в итоге дожили. Причём именно это отсутствие шанса выжить сформировало вас. Вы могли быть собой только в своём времени.
Интересно то, что люди, лично знавшие вас, тоже задумываются об этом. Соловьёв в вышеупомянутой статье задаётся вопросом, как бы повлияла на ваше творчество перестройка. Ваша мать тоже спрашивает себя, приняли бы вы крушение советской власти или начали бы безнадёжную борьбу против нового режима. Ответа нет ни у кого.
Несколько лет вы живёте как простой советский пролетарий. Работаете на заводе. Играете в футбол. Болеете за любимые команды. Пьёте по выходным. И по вечерам. От окружающих рабочих вас внешне ничто не отличает. Только есть одна мелочь, почти незаметная. Вы знаете, что время уходит. Можно сказать, что вы находитесь в сознании, но пытаетесь это сознание отключить при каждой возможности.
Такая ситуация не может продолжаться вечно. И она заканчивается. Катастрофой.
Семья понимает, что вы превращаетесь в алкоголика. Крумгольдам вообще не стоит пить. С этим процессом пытаются бороться. Вы доверяете матери, поэтому она может договориться, чтобы вам вкололи безвредные витамины, и убедить вас, что это серьёзное лекарство, которое нельзя смешивать с алкоголем. В этих случаях вы держитесь. Некоторое время. Но постоянно держать вас в этом состоянии невозможно. Начинающийся алкоголизм почти не мешает вашей жизни до определённого момента. Этим моментом становится неудачная помолвка.
Во время очередного курса лечения вы знакомитесь с девушкой. Её зовут Таня. Она тоже из Латгалии. У неё тоже онкология. Два молодых человека оказались в одной ситуации ожидания скорой смерти. Вы не могли не вцепиться друг в друга. Дело идёт к свадьбе, вы уже подали заявление в загс. Но на этапе знакомства с родными случается неизбежное. Вы приезжаете с семьёй к её семье. И напиваетесь до потери человеческого облика. Происходит грандиозный скандал. После она приезжает в Даугавпилс – и снова застаёт вас пьяным. Это становится последней каплей, она присылает вам письмо с объяснением причин и разрывает помолвку. Больше вы не увидитесь.
Второй раз за вашу короткую жизнь эта жизнь полностью рушится. Возможно, даже третий, если вспомнить историю с исключением из техникума, хотя там не похоже, что вы реально переживали. Теперь произошла реальная катастрофа, где вы уже не могли винить в произошедшем внешние обстоятельства. Невозможно повлиять на возникновение рака, но алкоголь – это совсем другое. Вы не можете это контролировать, но в этом только ваша вина. Вы проиграли. Подвели умирающего человека. Более того, подвели себя самого. Жизнь снова не имеет смысла. Даже работа, которую вы с таким трудом получили, больше не имеет смысла. Вы уходите с завода. У вас остаётся пенсия в семьдесят рублей в месяц и отвращение к себе.
Снова перед вашей матерью возникает непосильная задача вытащить сына из эмоциональной трясины. Уговоры уже точно не подействуют, но ей приходит в голову отличная идея. Вам нужно на время сменить обстановку. Она достаёт для вас путёвку в санаторий в Цирулиши. Это зима. Февраль 1979 года. Санаторий стоит полупустым, но там есть другие люди. Среди этих людей – девушка, которая полностью изменит последние годы вашей жизни. Ваша будущая жена, помощник и вдохновитель, мать ваших детей. Моя мать. Марина Анатольевна Крумгольд (Крумгольде), урождённая Дмитриева.
Сейчас я приступаю к самому сложному для разделу. Большинство предыдущих героев этой маленькой книги, включая вас, давно уже мертвы, это даёт мне иллюзию нейтрального, объективного к вам отношения. Совсем другое дело – моя мать. Она жива, но мы с ней почти не общаемся, поскольку тесное общение быстро приводит к эскалации старых конфликтов. Наш последний разговор в реальности был кошмаром, как для меня, так и для неё. Меня нельзя назвать ни нейтральным, ни объективным, поэтому я наверняка в итоге окажусь несправедливым к ней.
Пожалуй, нужно просто признать: я не знаю её такой, какой знали вы. Моя мать – это человек, переживший совершенно грандиозную трагедию. Она пережила вашу смерть. Это были десятилетия перманентной депрессии, прерываемой попытками повторить случившееся когда-то чудо. Десятилетия духовного поиска, состоявшего из чтения в гигантских количествах дешёвых эзотерических книг в мягких обложках, вперемешку с народными рецептами исцеления от всех возможных болезней, в первую очередь от рака. И попыток исцелить, спасти и духовно поднять всех окружающих, включая меня самого.
Я знаю, что эти черты характера были в ней всегда. Знаю, отчего они возникли. Но я не знаю, какой она была в то время, когда действительно была счастлива. Просто я знаю её только несчастной, во многом по моей вине.
Не знаю, есть ли реальная необходимость писать про эту часть семейной истории. Ведь это мой род, не ваш, вы встретились с ними всеми уже взрослым, сформировавшимся человеком. Почти сформировавшимся: впереди вас ещё ждала серьёзная трансформация. Эта трансформация была связана с Мариной. Значит, я должен коснуться предыстории – рассказать про другую часть моей семьи.
Она родилась в 1957 году в Пскове. Вполне возможно, что в ней есть кровь псковских кривичей, тех самых древних соседей латгалов. Она была средней из трёх дочерей, родившихся в очень сложной, тяжёлой семье. Про её отца, Анатолия Дмитриева, я знаю мало. Он был охранником в сталинских лагерях, согласно её рассказам – очень тяжело переживал свою работу и сочувствовал заключённым. Пил. Жил с женой, которая его не любила. В итоге повесился. Моя мать возлагает вину за это на свою мать – Марию.
Здесь нужно учесть, что моя мать до сих пор истово и искренне ненавидит свою мать. Ненавидит своё детство и свою школу. Но в первую очередь – мать. Я знаю, что нельзя полагаться на столь субъективное отношение. Но я уверен в том, что у этой ненависти есть вполне серьёзные основания. Дело в том, что я застал свою бабушку в живых.
Несколько лет, до того как границу между Россией и Латвией окончательно закрыли и ввели визовый режим, нас с братом отвозили на лето в Псков. Та часть каникул, которая происходила в семье тёти, была самой лучшей частью года. Но часть этих месяцев мы жили с бабушкой. И это был действительно кошмар. Мы вовсе не были настроены против бабушки – все истории про детство нашей матери были рассказаны гораздо позднее. Мы просто приезжали туда и оказывались в атмосфере постоянного стресса. Злости и презрения с её стороны, регулярно взрывавшихся приступами ярости. Она не била нас, просто говорила нам, какие мы плохие и ничтожные, и это была пытка хуже физической. За все эти месяцы я ни разу не видел её в хорошем настроении. Возможно, просто не помню этого. В любом случае, мне трудно представить себе, каким могло быть детство рядом с этим человеком.
У такого характера есть объяснение. Она была несчастной. Выросла в колхозе. Пыталась вырваться оттуда в город, поэтому вышла замуж за моего деда. Это было описано мне как помолвка с первым встречным с городской пропиской – возможно, слишком зло и преувеличенно. В итоге она, по словам моей матери, оказалась заперта в семье с нелюбимым человеком. Тяжёлая работа на селе сменилась ещё более тяжёлой работой в городе: она устроилась на хлебокомбинат. В таких условиях у любого характер испортится. И это создало условия для формирования другого характера, крайне важного для нашей с вами истории.
Моя мать стала Хорошей с большой буквы. Не просто хорошей, а крайним идеалистом. Она выросла в абсолютно враждебной, по её словам, среде, и эта среда её закалила. Она была типичной отличницей. Начитанной девочкой в очках, склонной, естественно, к романтическим фантазиям. При этом в её классе была такая обстановка, что к старшим классам большинство девочек успели забеременеть, а большинство мальчиков – сесть. Это описание плохо сочетается с моим представлением о застойном СССР, поэтому я могу предположить, что она всё-таки преувеличивает. Но я уверен, что эта картина возникла не на ровном месте. Приходя же из школы, она попадала на поле бесконечной битвы с собственной матерью. Конфликты. Оскорбления. Несколько попыток самоубийства, к счастью, неудачных. Она рассказывала, что глотала иголки и заплывала на середину озера, пытаясь утонуть. Мне повезло, что в ней не было целеустремлённости её отца. Нам повезло.
Такое детство могло бы полностью сломать её, но в итоге сформировало в ней менталитет крестоносца.
Дома её оскорбляли и называли блядью – она категорически отказалась ругаться матом и твёрдо сохраняла девственность до свадьбы. Все вокруг пили – она с гордостью не употребляла ничего, включая табак. То есть стала белой вороной в своей среде, но этот факт вызывал в ней только гордость.
Убеждённость в том, что весь мир лежит во тьме и она лично является лучом света в окружающем тёмном царстве, сохранится в ней навсегда. Это станет основой её мировосприятия, фундаментом личности. В строгом соответствии с теорией Юнга, вытесненное из сознания сходство с собственной матерью станет Тенью, негативной стороной личности. Её способность интенсивно ненавидеть говорит мне, что она всё-таки дочь своей матери. Хотя для неё в них нет ничего общего, потому что она – добро, а её мать – зло. Снова уточняю: я сейчас сопоставляю всё, что мне известно про её детство, с тем человеком, которого я сам знаю с детства. Я не знаю, как проявлялась эта Тень в ней до того, как она стала моей матерью и впоследствии вашей вдовой. Бабушка уверяет, что вы прекрасно понимали эту особенность личности своей жены и говорили, что ей необходимы враги. Но я не знаю, кто были эти враги. Ясно только то, что менталитет крестоносца и миссионера был с ней всегда.
Под конец бесконечная борьба со своей семьёй подрывает её здоровье. У неё начинаются сильные мигрени. Она отказывается поступать в институт, вместо этого идёт работать страховым агентом. Работает, по её словам, хорошо, даже отлично. Зимой 1979-го на её работе возникает жутчайший аврал: все данные переводят в ЭВМ, в связи с чем на страховых агентов падает тройная нагрузка. Дома при этом продолжается бесконечный конфликт, перешедший в холодную фазу. Она просто сводит общение с родственниками к минимуму. Старается приходить и уходить, когда все спят. Ей тоже необходим срочный отдых со сменой обстановки. Даже несмотря на то, что это не сезон. В декабре 1979-го она берёт путёвку в санаторий Цирулиши. Ей двадцать два года. Она девушка.
Вы встретились в этом санатории. Вы показывали ей, как играть в новус (для меня большим сюрпризом оказалось то, что это чисто латвийская игра, неизвестная за пределами республики). Потом просто говорили. Провели эти десять дней вместе. Она была красивой, увлекающейся и, судя по тем пометкам на книгах, что я видел, обладала живым умом. Вы были надёжным. Умным, несмотря на отсутствие образования. И очень добрым.
Вы влюбились друг в друга, и это была действительно искренняя любовь. Вернувшись из санатория, вы немедленно устраиваете поездку в Псков и новое знакомство с новыми родителями. Если бы это была художественная повесть, то для драматургии было бы неплохо, если бы вы приехали в Псков трезвым и целеустремлённым. Но я описываю вам вашу реальную жизнь, так что должен признать: вы и там сорвались. Вот только ваша новая невеста была уже закалённым жизнью бойцом, не готовым отступать перед временными трудностями. Потенциальная тёща тоже не имела ни малейших возражений против брака. Более того, у общавшейся с ней потенциальной свекрови сложилось твёрдое впечатление, что Мария Фёдоровна была рада любой возможности избавиться от ненавистной дочери. Подозреваю, что так и было.
В свою последнюю поездку в Псков я встретил человека, который помнит вас в тот приезд. Тётю Розу. Сейчас она превратилась в тихую, интеллигентную и очень вежливую старушку, которая живёт в сельском доме у моей двоюродной сестры и её мужа. Постоянно смотрит новости с Донбасса, надеясь увидеть в фронтовых сводках свой дом. Она – беженец из зоны боевых действий. Я хотел спросить её про тот ваш приезд, но вместо этого просто слушал про войну.
Цепь событий вашей жизни уже почти дошла до кульминации. Очень скоро, уже в 1980‑м, вы сыграете свадьбу. Вы общались друг с другом лично пятнадцать дней. У вас впереди будет пять лет.
Возникает вопрос: понимала ли она, что вы умираете? Бабушка уверяет, что перед рождением второго ребёнка в семье она специально поговорила с невесткой о том, что её муж может умереть буквально в любой момент. Но моя мать от этого просто отмахнулась, сказав, что вы здоровый парень, крепкий как дерево. Охотно верю – настоящий идеалист способен полностью игнорировать скучную реальность, а моя мать всегда была настоящим идеалистом. Она точно знала, что у вас онкология, но из этого не следует, что она понимала серьёзность онкологии. В дальнейшем она будет строить множество планов на совместную жизнь и окажется явно не готова к вашей смерти. Наверное, именно этого вы и искали. Не обязательно сознательно, конечно. Даже наверняка бессознательно. В любом случае, впервые за пять лет умирания рядом с вами появился человек, который просто игнорировал сам факт существования болезни. Жил так, словно она не имеет реального значения.
Настоящие изменения происходят постепенно. В первые месяцы после свадьбы вы по-прежнему выпивали и сидели без работы. Но теперь рядом был абсолютно преданный и поддерживающий вас человек. Отношения с матерью, какими бы тесными они ни были, всё равно никогда не достигнут такой интенсивности. Марина сильно удивлялась атмосфере в своей новой семье: её жизненный опыт не подготовил её к тому, что члены семьи могут любить друг друга. При вашей жизни никаких реальных конфликтов в получившейся семье не возникало. Вы с равной силой, хоть и по-разному, любили и жену, и мать, поэтому выступали в роли своеобразной подушки безопасности. То есть гасили любые возможные конфликты между ними. После вашей смерти ситуация изменится, я уже буду расти в расколотой семье.
Марина устраивается на новом месте страховым агентом. Она уже профессионал, так что показывает себя с лучшей стороны. Через полгода и вы возвращаетесь на родной завод. Трудно сказать, что происходит внутри вас в первые два года совместной жизни. Вы уже на пороге очередной, финальной трансформации, хотя и не знаете об этом.
Марина забеременела в 1981‑м. Я родился в самом начале января 1982-го. Начиная с моего рождения вы полностью бросаете пить. Впоследствии в своей анкете вы напишете «алкоголизм» в ответ на вопрос о качестве, внушающем вам наибольшее отвращение.
Я уверен, что именно рождение сына стало для вас решающим фактором. Но я также знаю, что примерно в этот период ваш организм передал вам последнее предупреждение. Прямо в цеху с вами происходит эпилептический припадок. Возможно, вызванный алкоголем. Возможно, просто сенсорной перегрузкой. В этом вопросе воспоминания сильно разнятся. По одной версии – это был просто алкоголь. Вам стало плохо, закружилась голова, и вы упали с локомотива. Поскольку наличие вашей вины в произошедшем могло привести к увольнению, то вас отправили в психиатрическую больницу и поставили диагноз «эпилептический припадок». Прямо это не говорилось никем, но прозвучали намёки, что это могло быть ложным диагнозом. Основание – полное отсутствие подобных припадков в будущем. Другая сторона уверяет, что это был реальный припадок и что никаких оснований поднимать связи не требовалось. Это ещё одна история, о которой могли бы ясно рассказать только вы. Но короткое упоминание о том, что у вас могла быть эпилепсия, сильно повлияло на меня в подростковом возрасте.
Понимаете, вопрос психиатрии всегда был очень важным для меня. Болезненно важным. Меня со второго класса перевели на домашнее обучение, поставив диагноз «невроз». Главной причиной было желание моей матери воспитать из меня гения, не испорченного гнусной системой образования. Но при этом моё собственное поведение было достаточно странным. Сейчас я склонен считать, что я просто нахожусь в аутическом спектре. У меня неплохой интеллект, но я плохо сочетаюсь с другими людьми, поскольку не считываю невербальные сигналы и не воспринимаю общепринятые понятия как обязательные по умолчанию. Но это сейчас я могу так рассуждать – тогда я с огромной скоростью десоциализировался, превращаясь в ребёнка, живущего глубоко в своём мире. Каждый год меня приводили в ту самую даугавпилсскую психиатрическую больницу. Смотрели на моё поведение, с каждым годом становившееся ещё более странным. Давали очередное освобождение от занятий в классе и отпускали обратно в библиотеку. В последние годы начали советовать оставить меня в больнице подольше. Скажем, на месяц. Для получения диагноза, инвалидности и пенсии. Впрочем, к тому моменту я уже осознал весь ужас своего положения и начал долгий бунт против судьбы, на который был почти обречён. Если вас создало осознание своей смертности, то меня – осознание того, что я, возможно, схожу с ума. Страх перед безумием и одновременно интерес к этому вопросу. К вопросу о том, что есть безумие и что есть норма. Вся моя личность порождена этим опытом. Впоследствии я узнал, что у меня подозревали «вялотекущую шизофрению», псевдоболезнь, которая существовала только в Советском Союзе и не была признана нигде в мире. Просто в латгальской провинции никто ещё не успел узнать, что такого диагноза просто не существует.
Когда я начал читать про психиатрию, я встретил описание эпилепсии. Оказалось, что это не просто редкие припадки, это достаточно сложное явление. В образе князя Мышкина Достоевский описал именно свой опыт эпилепсии. Преувеличенный, конечно. Но мысль о том, что вашу жизнь можно объяснить через эпилепсию, долго не давала мне покоя. Однажды моё безмятежное прошлое вне школы поймало меня. К тому моменту с меня давно были сняты все подозрения в наличии диагноза. Но я оказался фигурантом очень серьёзного уголовного дела. Там было обвинение лет на пятнадцать строгого режима. Хранение оружия и взрывчатых веществ, призывы к свержению государственной власти и даже, на первом этапе, подготовка покушения на президента Латвийской Республики. Когда дело окончательно развалилось за отсутствием прямых улик, прокуратура начала искать возможности закрыть его без привлечения лишнего внимания. Нашли в моём досье, что я состоял на учёте в детстве. После чего отправили на месяц в рижскую психиатрическую больницу, на комплексную судебно-медицинскую экспертизу. В надежде, что меня признают невменяемым и дело автоматически закроется без суда. Я взял с собой в путешествие целую стопку книг, в том числе и «Идиота». Читая его в палате, вперемешку с пронесённым тайком учебником по судебной психиатрии, я не мог не думать про вас и ваш диагноз. Вероятность того, что вы стали поэтом из-за страха потери контроля над собой, вызывала интерес. В каком-то смысле вы смешались в моих глазах с моим любимым певцом и поэтом, Йеном Кёртисом. Вы наверняка не знали о его существовании, хотя он был вашим современником. Он был эпилептиком и повесился за пять лет до вашей смерти. В ваших текстах нет ничего общего с его текстами. В вашей жизни тоже. Но мне тогда казалось, что если бы вы родились не в Даугавпилсе, а в Манчестере, то ваша жизнь могла бы быть похожа на его.
В любом случае, к уже существующему букету диагнозов добавляется эпилепсия. С одной стороны – появилась серьёзная ответственность в лице меня. С другой – новая опасность. В такой ситуации для вас могло быть только одно решение. Полная трезвость.
Но самым важным оказалось другое изменение. Вы начали писать.
Вы начали писать стихи неожиданно. Это был или 1982 год, или начало 1983-го. Марина утверждает, что вы писали последние три года своей жизни. После вышеописанного несчастного случая – эпилептического припадка на работе – вы отправляетесь на долгий больничный. Пока вы лежите дома, вы внезапно исписываете свою первую тетрадь. Это не были ваши первые стихи – Марина вспоминает, что первое стихотворение вы написали в 1975 году, в семнадцать лет. Про синее поле и голубые цветы. Сегодня вечером я впервые прочитал его, оно, к моему шоку, оказалось записано в найденной тетради и выслано мне. Вполне приличное для подростка.
Потом перерыв на много лет. И вот снова пошли тексты. Наивные и пафосные, как и все тексты из всех первых тетрадей. Первый текст датирован декабрём 1982-го и представляет собой колыбельную мне. Потом неуверенный перевод с латышского, из Зиедониса, датированный мартом 1983-го. Текст о депрессии от апреля 1983-го, наверное, связанный с вышеописанной ситуацией. И четыре пафосных текста за май 1983-го, последний из которых уже является полностью вашим по сюжету и образному ряду. Главное – рядом с вами была действительно влюблённая и гордая вами женщина, готовая сделать всё возможное, чтобы развить ваш талант. Она превращается в секретаря, помощника и литературного агента в одном лице. Она начинает активно помогать вашей творческой эволюции.
Здесь я снова должен сделать шаг в сторону. У моей матери, какой я её знаю с детства, стремление развивать и возвышать окружающих мужчин приобрело черты навязчивой идеи. Она искренне поверила в свою способность взять на поруки ничем не примечательного алкоголика и разработать для него программу саморазвития, которая позволит воссиять его скрытым лучшим качествам. У неё даже нашёлся образец для подражания в советском кинематографе, а именно мелодрама «Влюблён по собственному желанию». Это своеобразный фильм, «Укрощение строптивой» наоборот. Невзрачная, но возвышенная в душе библиотекарь (с которой моя мать явно ассоциировала себя тогда и, скорее всего, по-прежнему ассоциирует себя сейчас) встречает опустившегося, спивающегося рабочего, бывшего гонщика, более того, бывшего чемпиона. В качестве аутотренинга эти двое начинают влюблять себя друг в друга. В итоге она его возвышает, преобразовывает и получает в награду настоящую любовь от настоящего мужчины. На последнем кадре они в одной постели. Занавес.
Примером из жизни, доказывающим, что это возможно, стала именно история ваших с ней отношений. Пересказанная с этого ракурса, она превращалась в сагу о человеке, согласившемся сотрудничать в деле саморазвития. В отличие от всех остальных, отказывающихся выполнять предписания. Даже её статья про вас в «Невгине» чем-то смахивает на рекламный буклет по принципу «было/стало».
Меня крайне раздражали и этот фильм, и скрывавшаяся за ним философия. У меня были на то очень серьёзные причины, поскольку я вхожу в список «отказавшихся сотрудничать». И сама история ваших отношений в таком контексте выглядела неправильно. Вы явно сводились к роли объекта, глины в любящих руках. Вы описывались в абсолютно восторженном, восхищённом тоне, но всё равно казались объектом. Это выглядело несправедливо.
Только когда я начал собирать истории из вашей жизни и выстраивать хронологию событий, то понял, что вышеописанное было во многом недопониманием и проблемой восприятия. В вашей реальной истории мать выглядит почти безукоризненно, не руководя, но помогая. Вышеописанный фильм тоже не мог послужить образцом – уже потому, что он вышел на экраны только в 1982 году. Скорее можно сказать, что экранная история впоследствии наложилась на реальную. Получается, что эта версия – не более чем рационализация, романтический миф, рассказанный задним числом с целью объяснить для самой рассказчицы происходившее в её жизни. Думаю, это уточнение не имеет никакого значения для вас, но оно очень важно для меня. Кстати, в ваших черновиках нашлось одно стихотворение про аутотренинг, достаточно критическое: успех аутотренинга может убить способность писать.
Итак, вы вернулись после больничного на работу уже как начинающий поэт. У вас была первая тетрадь, наверное, написанная вашим чудовищным, совершенно неразборчивым почерком. И главное, у вас был рядом человек, готовый разбирать этот почерк и делать всё возможное для продвижения молодого автора. В том числе и самое важное. Критиковать. Говорить, что именно получилось неудачно. Марина вспоминает, что вы были горды собой и плохо воспринимали критику. Но она нашла людей, мнение которых вы учитывали.
Она заметила в городской газете объявление про то, что при Доме культуры химиков существует литературный кружок для рабочей молодёжи под руководством Зенона Бурого. Место, куда может прийти любой молодой автор и получить отзыв и критику. Инкубатор для потенциальных советских писателей. Вы идёте туда, с настроением «со щитом или на щите». Приносите свою тетрадь. Возвращаетесь домой задумчивый, со словами «надо работать». Начинаете работать и быстро вливаетесь в новую для себя среду. Молодые поэты и барды моментально становятся вашими новыми друзьями. В одном мы с вами похожи: если вы чем-то увлекались, то увлекались до конца, поэтому литературный кружок стал вашим вторым домом. Вы с друзьями собирались там, разбирали тексты друг друга, обменивались книгами, спорили. Пожалуй, это можно назвать новой жизнью.
Все эти люди потом будут присутствовать в моём детстве как «друзья отца». Фактически единственные ваши друзья. Меня будут водить в гости к Александру Барбакадзе и Владимиру Вретосу, рассказывать истории про Зенона Бурого и Елену Фигурину. Если говорить прямо, никто из них не реализуется в литературе. Кто-то уйдёт в бизнес, не буду объяснять вам, что это значит, кто-то начнёт жить обычной жизнью. Те, кто продолжит изредка печататься в городском поэтическом сборнике, не вызовут лично у меня никакого восторга. Более того, с того момента, как я начну интересоваться поэзией, свежие тексты Зенона Бурого превратятся для меня в источник смеха и хорошего настроения.
Пройдёт время, и я сам начну печататься в этом самом городском поэтическом сборнике, примкнув, если можно так выразиться, к группе авторов, работающих в верлибре и свободном стихе. К тому времени «декоративная» поэзия будет вызывать у меня только раздражение. Дело не в рифме или верлибре – декоративным может быть что угодно. Просто большая часть поэзии на практике оказалась своеобразным карго-культом. Аэродромом, построенным из соломы. Я считал и считаю, что писать нужно только в том случае, если тебе необходимо что-то сказать. Но большинство стихов в мире пишутся в качестве доказательств претензий автора на «онтологический статус поэта», якобы возвышающий над толпой. Из этого не следовало, что я начал относиться враждебно к самим авторам, чисто по-человечески многие мне нравились. Дело было в принципе, в отношении к феномену поэзии.
Здесь в очередной раз возникает проблема восприятия. Вы дружили с теми авторами, кто стал для меня образцом того, как не надо писать. Более того, вы у них учились. И хорошо учились, судя по качеству последних текстов – совершенно не декоративных. Попытки найти корни вашей стилистики в ваших любимых и нелюбимых авторах тоже ничем мне не помогли.
Правда, в анкетном вопросе об авторе, внушающем неприязнь, я снова нахожу в вас родственную душу: вы назвали советского поэта Сергея Острового. Он совершенно забыт, я сам о нём узнал только в этом контексте. Но его реально можно назвать образцом декоративной поэзии. Вы даже написали на него несколько злых эпиграмм. Одну, со словами «есть поэты-бараны», я знал с детства. Просто Марине очень нравятся слова «их разума радость» как намёк на маразм. Она не раз приводила их мне как образец того, как нужно работать со звучанием слов. Ещё две, с предложением поступить «как классик» и сжечь свои творения и с описанием, как зал тошнит от таких стихов, я прочитал только сейчас. В качестве причины такого отношения мне пересказали, как вы возмущались песней «Вы слыхали, как поют дрозды», текст которой сочинил как раз Островой. Конкретно вас взбесила бессмысленная фраза «нет, не те дрозды, не полевые». Получается, что вас раздражало то же, что и меня: фальшивая бессмыслица, написанная с целью уложиться в рифму и ритм.
С другой стороны, в той же анкете вы называете своих любимых авторов. Против Маяковского и Пастернака у меня лично возражений нет. Но третья фамилия – Вациетис – вызывает у меня эстетический шок. Я специально нашёл сборник его стихов, пролистал подряд несколько эталонных образцов плохо срифмованной пропаганды и закрыл с недоумением. Возможно, тут как-то проявился ваш менталитет «советского латыша»? Просто Вациетис, как и ваши родители, был латышом, не имевшим отношения к Первой республике. Ваши ранние тексты очень похожи на Вациетиса. Поздние – совсем нет.
Ещё один автор упоминается в воспоминаниях Евгения Голубева. Андрей Вознесенский. Вы любили его стихи и читали их наизусть. В детстве я пытался прочитать одну из книг Вознесенского, зацепил только один короткий текст, в котором дети названы «перископами мертвецов». Я знаю, почему он меня тогда задел: я себя ощущал именно так. Одним из тех, кто смотрит в мир глазами отца. Вашими глазами. Остальные тексты не вызвали интереса. Потом я начал воспринимать Вознесенского как продвинутую версию ненавистного мне Евтушенко. Была ещё ужасная песня, сильно испортившая мне детство, про девушку, плачущую в автомате. Опять-таки на стихи Вознесенского, что сильно настроило меня против него. Только попытка понять, что в нём нашли вы, заставила меня перечитать эти стихи в зрелом возрасте. Если честно – так и не понял. Для меня Вознесенский взял от Маяковского худшее. Пафос и пошлость. И довёл до титанических масштабов. В этих горах пошлости изредка попадаются хорошие строки, обычно про животных. Котов или зайцев. Доставшиеся мне ваши стихи совсем другие. Ваши друзья упоминают, что ваши ранние тексты были более помпезными. Хорошо, что они до меня не дошли, хотя и жаль немного, что я не могу сопоставить в сознании этапы вашей эволюции.
Плюс два закопанных в черновике текста, посвящённых Есенину и Высоцкому.
Одним словом, в списке ваших поэтических увлечений нет никого из тех, кто вспоминается при взгляде на ваши зрелые тексты. Возникает ощущение, что вы действительно дошли до этого свободного, лаконичного стиля самостоятельно. Просто за счёт стремления к точности. Наверняка это не так, всегда есть некий автор, текст которого должен был натолкнуть вас на изменение стиля. Барбакадзе говорит, что вы любили японскую и китайскую поэзию. Более того, по его словам, в ваше время было вполне возможно прочитать Уитмена и Аполлинера. Он не может с уверенностью сказать, что вы были знакомы с этими авторами, хотя думает, что да, вы их читали. Но узнать это точно уже невозможно, вы не сможете ответить. Я спросил Марину про Уитмена. Она уверенно ответила, что да, вы его очень любили. И начала цитировать: «Я тебя разлюблю и забуду, когда в пятницу будет среда…» То есть текст Вознесенского, являющийся переводом стихотворения его друга, англоязычного поэта Уильяма Джея Смита. Судя по этому примеру, вы не читали Уитмена, по крайней мере, не делились этим с женой.
Ещё была Ника Турбина, как раз ставшая газетной сенсацией. Вы написали про неё стихотворение. В котором речь идёт не только о поэзии, но ещё и о детстве. Текст, посвящённый Турбиной, – единственный текст про другого поэта в вашем наследии. На мой взгляд – это признак прямого влияния. В структуре текста поэзия оказывается синонимом резкого взросления. Поэзия ставит автора впереди себя и времени. То есть вы разделяли стереотип о том, что поэт является онтологически высшим существом. Использование слова «Бог» с большой буквы и отсылка к греческой мифологии в виде ассоциации Турбиной с богиней победы Никой лишь закрепляют ощущение «возвышенной поэтичности».
Интересно сравнить ваше представление о Нике с судьбой реальной Турбиной. Вы про это не успели узнать, но в реальности она так и не стала по-настоящему взрослой. Вся её история, с ранним замужеством, алкоголизмом и суицидом, – это история инфантильности. То есть полная противоположность вашей истории. Но в ноябре 1984-го вы ещё не могли об этом знать. Хотя, судя по тексту, чувствовали, что она может и не победить. Барбакадзе вспоминает, что вы спорили с ним о Нике Турбиной, поскольку он был скептичен к её потенциалу. Вы же были действительно увлекающимся человеком, про это говорят все.
Очевидно, что вы много работали над собой. Читали, анализировали, обсуждали, спорили. Доходило до смешного: одна из газетных вырезок с вашей публикацией полностью исписана вашими комментариями под стихами тех, кто был напечатан рядом с вами. Неудачные фрагменты зачёркнуты, немногочисленные удачи – выделены. При этом рассказывают, что на обсуждениях чужих текстов вы предпочитали отмалчиваться, говоря, что вам всё нравится. Словно вся эта работа происходила внутри вас и только для вас одного.
Для объективности мне нужно забыть про моё отношение к стихам тех, кто был рядом с вами. Я смотрю из будущего на их будущее, при этом мой взгляд основан на совершенно другой культурной ситуации. У меня всё равно не получится увидеть их такими, какими их всех видели вы. Точно так же невозможно увидеть вас таким, каким видели они.
Воспоминания про вас вашего самого близкого друга, Александра Барбакадзе, плохо сочетаются с тем, как вас помнят ваши родственники. В его описании вместо твердокаменного коммуниста возникает обычный парень восьмидесятых, шутивший над престарелыми членами Политбюро, носивший джинсы и с увлечением читавший запрещённого ещё недавно Пастернака. Разумеется, он не описывает вас диссидентом, скорее человеком, который уже в принципе готов к тому, что скоро всё изменится. Не думаю, что вы лицемерили перед друзьями. Люди – парадоксальные существа, искренняя любовь к Пастернаку вполне может сочетаться с внимательным чтением Сталина. Возможно, двойственность вашего образа означала, что вы действительно уже менялись. Что изменение среды неизбежно должно было изменить ваш внутренний мир. Барбакадзе тоже не был диссидентом, но вступить в литературный кружок ему посоветовал КГБ, после участия в самиздатовском литературном журнале. Для него сама мысль о том, что вы могли быть как-то связаны с этой конторой, выглядит кощунственным абсурдом. Для меня – тоже, но я обязан учитывать все рассказанные мне варианты.
Всегда есть это искушение – записать кого-то уже покойного в свои единомышленники только на основании того, что тебе близко написанное им. Только это лишь очередная иллюзия. Более того, редко бывает, чтобы человек, который написал, сочинил или нарисовал то, что близко тебе, сам при этом любил то, что нравится тебе. Кстати, ваш шутливый текст «Первый прыжок» является прекрасной иллюстрацией. Этот текст появился в подборке для Dzejas dienas практически случайно. Марина уверяет, что изначально это была просто шутка, построенная на игре слов. Никакого реального значения для вас как автора этот текст не имел, однако он был в тетради, из которой составлялась подборка для Dzejas dienas. И Трофимов отдельно выделил этот текст, найдя в нём глубокий смысл, доступный лишь тем, кто прыгал с парашютом. Только вы никогда с парашютом не прыгали. Вы просто играли со словами и их звучанием.
Другой пример, уже мой личный, – восприятие вашего текста «Берёза осенняя, какая она счастливая». Это один из ваших коротких верлибров, внешне напоминающих японское хокку, но не связанных жёсткими правилами, характерными для данного стиля. В «Невгине» он был напечатан в три строки. Но есть и газетная публикация, от 22 декабря 1984 года. В ней четыре строки и многоточие после слов «Берёза осенняя». В своё время я тоже экспериментировал с подобными текстами, наверняка под вашим влиянием. В итоге написал постмодернистскую шутку в духе «Это не трубка», состоящую из трёх слов: «Это не хокку. / Это трёхстрочный / Верлибр». И понял, что исчерпал для себя данную тему. Получается, что мой интерес к верлибрам из трёх строк возник на основе ошибки при публикации вашего текста.
Это действительно важная тема: текст, возникающий в сознании при чтении произведения, всегда отличается от текста, который существовал в сознании автора этого произведения. Другое время, другой жизненный опыт, другие политические или религиозные взгляды. Другие этические принципы и эстетические влияния. Всё перечисленное изменяет перспективу, трансформирует смысл текста. Это выглядит отвлечённым философствованием, но для меня это очень важный момент. Вы для меня только текст. Точнее, несколько текстов, противоречащих друг другу. Тексты ваших стихов. Тексты воспоминаний про вашу жизнь. Я складываю ваш образ из доставшихся мне осколков, пытаясь разрешить неизбежные противоречия. Вы писали подобным образом о том, как составили собственную жизнь. Только мне не хватает того, что «стоит домик – и ладно», я действительно хочу увидеть вас за этими текстами. Хотя и понимаю, что это в принципе невозможно. Есть понятие «археология текста», я же пытаюсь заняться эксгумацией текста. Складываю тело из ваших строк.
Этот рабочий литературный кружок был вашим единственным окном в новый мир. Единственной возможностью. Вы блестяще воспользовались этим шансом. За пару коротких лет участия в кружке вы развились так, как другие не развились бы за десятилетие. В 1984‑м начинаются первые публикации в городской прессе. На тот момент ещё очень неуверенные – ваша статья про выставку Гейкина, уже упоминавшаяся мной в начале этого разговора, действительно похожа на старательное школьное сочинение. Сравнение живописи с поэзией – невероятно оригинальная идея. Затем в этих же газетах начинают выходить ваши первые стихи. Для вас это очень важно, первое напечатанное стихотворение стало первым оставленным вами стихотворением, предшествовавшие подборки вы безжалостно уничтожали. Наверное, вы не смогли бы стать подпольным, «самиздатовским» поэтом, для вас явно был важен социальный статус.
Нет доступных изображений.Вы приносили эти подборки в редакцию. Раз за разом. Разумеется, сильно волновались. Марина говорит, что для первой публикации вы выбрали то, что выглядело наиболее традиционно. Не в плане рифмы и ритма (они как раз были довольно свободны), но в плане идеологии. Текст «Ты помнишь, мой город…» остался самым политизированным из ваших опубликованных текстов. Он полностью краснознамённый, рассказанная в стихотворении версия оккупации Даугавпилса далека от реальной. Чистая идеология. Но видно, что вы писали это всерьёз. Только она неправильно запомнила очерёдность: в архиве «Ты помнишь, мой город…» оказался только третьей публикацией. Это текст про историю нашего города во время войны. Цвет, естественно, алый. Идеальный текст к календарной дате. Искренне помпезный и пафосный. Сравнивая его с подлинной историей города, снова вспоминаешь, что наша семья переехала туда через много лет после войны. Вы явно просто не помните о том, что Даугавпилс до оккупации был советским не больше года. В вашем представлении это идеальный краснознамённый советский город, гордый и непреклонный. Казни для вас – это казни подпольщиков, про основную цель деятельности айнзацгруппы А вы просто не помните. Наверное, это правильно, кровь для вас – кровь героев, могила – братская. Но в итоге получился, повторюсь, мой самый нелюбимый ваш текст. Интересно другое: это единственный ваш прямо политический текст. Только в нём виден убеждённый коммунист из воспоминаний ваших родных.
Это очень важный аспект, на самом деле. Я по себе знаю, как непросто отучить себя от привычки писать рифмованную пропаганду, мои первые стихи были именно такими. Но у вас неким образом получилось разграничить то, что было важным для вас, и то, что было действительно важным. Это странно: всё, что я про вас знаю, говорит о том, что вы могли стать хорошим агитатором вместо поэта. Хотя, по неясной причине, практически не публиковали агитационные тексты. В любом случае, на решение печатать вас не могли не повлиять волшебные слова «автор – слесарь-ремонтник второго разряда», советская власть реально поддерживала писателей из народа. Тем более, когда это дружинник и человек на хорошем счету в партии.
В итоге ваше увлечение стихами начинает выглядеть началом возможной карьеры советского писателя. У вас складывается список публикаций, вас начинают готовить к поступлению в Москву, в Литературный институт на переводчика. Главная поддержка – Ольга Николаева, работавшая тогда в «Советской молодёжи». Именно она доставала все нужные рекомендации. Последняя поездка в вашей жизни была к ней в Лиепаю. Вы вернулись счастливым и с множеством планов на ближайшее будущее. Подозреваю, что текст «Возвращение» мог быть написан в поезде обратно, по времени это вполне совпадает с той поездкой. Если честно, я с большим трудом нашёл информацию про этого человека. Она сейчас в монастыре. Крайняя православная, даже радикал, найденное интервью практически целиком состоит из разоблачения западных влияний в литературе. Мир маленький, она упоминает творческий вечер Лимонова (с которым мне неоднократно довелось лично пересечься), откуда она в ярости ушла и потом жалела, что не устроила скандал с требованием посадить в тюрьму за пропаганду разврата.
Интересно, поддержали бы вы её в этом деле? Подозреваю, что да.
Ещё были рекомендации от партии. Более того, рекомендация была получена от самого Иманта Зиедониса, с попытки перевести текст которого началось ваше путешествие в литературный мир. В детстве я читал у бабушки на работе его маленькую книгу. Скорее всего, это были «Эпифании», я не уверен, но стиль очень похож. Потом, повзрослев, я вспоминал её, читая ваши стихи. В них казалось нечто смутно похожее. Тогда я удивлялся тому, что ещё один хороший советский писатель стал латышским националистом. Это наводило на неприятные мысли о том, что и вы могли перековаться. Тогда эти мысли ещё были неприятными.
Однако все эти внешние признаки возможного надвигающегося успеха были связаны с куда более важным аспектом. К осени 1985-го вы достигаете пика своей творческой формы. Это можно понять и по публикациям: уже второй ваш напечатанный текст был очень сильным и необычным. Второй, по словам Марины. Среди вырезок с опубликованным я не нашёл этого текста, но она уверенно утверждает, что вторым было «Зеркало», один из текстов, написанных после посещения спектакля «Лето в Ноане». Сперва я думал, что речь шла о найденном мной телеспектакле, потом оказалось, что это были гастроли московского театра Вахтангова. Вы, вместе с женой, были тогда увлечённым театралом. После спектакля вы написали целый цикл, из которого, к вашему удивлению, Соловьёв выбрал для публикации только один текст. Короткий, лаконичный и атмосферный. Полную противоположность вашим предыдущим текстам. Одновременно самый неясный, даже загадочный из ваших текстов. Очевидно, что речь идёт про литературного персонажа. Пьеса Ивашкевича «Лето в Ноане» посвящена отношениям Шопена и Жорж Санд. Под «зеркалом» вы явно описываете Жорж Санд из этого спектакля. Возможно, этот персонаж напомнил вам кого-то из реальной жизни, но это уже невозможно выяснить. Сравнение женщины с зеркалом будет присутствовать в одном из ваших текстов про Марину, но в данном случае перед нами совершенно иной образ. Это не зеркало, в которое нужно смотреть, чтобы увидеть собственную душу. Это холодное зеркало, на которое смотрят. На него, но не в него.
Марина вспоминает, что вы были изумлены. Вы перечитывали этот текст раз за разом, пытаясь понять, почему он был выбран. Причина изумления была проста: при сочинении этого текста вы не гнались за внешними эффектами. По словам Марины, вы с удивлением говорили, что можете писать такие стихи хоть по десятку за день, просто записывая свои мысли. Саму структуру того, как вы мыслите. Это означало совершенно иной путь. Более точный, менее помпезный. В тоже время Барбакадзе рассказывает, что вы обрабатывали даже самые короткие стихи неделями, размышляя над каждым словом. В этом нет никакого противоречия. Найденная точность, найденное слово тоже требовали серьёзной работы. Настоящая работа только началась.
Это очень важная история, и я счастлив, что она не была забыта. Если бы нам была известна дата публикации «Зеркала», то её можно было бы праздновать как ваш второй день рождения. Вы действительно стали поэтом только после этого опыта, после момента осознания самого механизма поэзии. Конечно, Честертон был прав в своём ехидном замечании, что «как дурной человек – всё же человек, так и плохой поэт – всё же поэт». Однако первая подборка, первое обсуждение и даже первая публикация ещё не превратили вас в тот феномен, над которым я продолжаю размышлять даже в тридцатилетие вашей смерти. Если бы от вас осталось только «Ты помнишь, мой город…», я бы сейчас не вспоминал о вас.
Основной массив ваших стихов существовал только в черновике. Скорее всего – в черновиках, сохранившаяся тетрадь покрывает лишь маленькую часть ваших публикаций, явно утеряно ещё несколько подобных тетрадей.У меня есть только эти тексты – единственное, что действительно осталось от вас. Единственная прямая речь, позволяющая заглянуть внутрь вашего сознания.
От вас осталось всего около семидесяти стихотворений. «Около», потому что есть несколько различных источников. При вашей жизни и сразу после смерти было напечатано 14 стихотворений, некоторые из них – в разных газетах в разных редакциях. Остальное осталось в рукописном варианте. Все эти тексты были напечатаны два раза, с некоторыми расхождениями. Одна подборка сперва появилась в Dzejas dienas и впоследствии была очень сильно расширена для журнала «Невгин». Источник – ваши тетради, переданные Александру Барбакадзе. Он сегодня нашёл одну из этих тетрадей, я читал и перечитывал её, прежде чем сесть за завершение собственного черновика. Вторая подборка была размещена Мариной на сайте stihi.ru. Жаль, что вы не можете спросить меня о том, что такое сайт. Ваши стихи размещены там с новыми заголовками, явно придуманными в процессе размещения на сайте.
Они совпадают более чем на девяносто процентов, однако несколько текстов на stihi.ru имеют другое завершение. Более того, два отдельных текста на stihi.ru напечатаны как один текст в «Невгине», причём получившееся произведение выглядит совершенно естественно и по смыслу, и по ритму. В черновике нашлось только одно из этих двух стихотворений, но, может быть, в другой тетради вы его просто дописали. Главное различие – количество многоточий, в подборке Марины их очень много. Сперва моим объяснением такому расхождению было то, что речь идёт о черновике. Что часть оставшихся текстов – полуфабрикаты, с разными вариантами завершения идеи. В этом варианте вы превращались в человека, который так и не сделал авторской подборки своих текстов. Просто не успел. В итоге при чтении и перечитывании ваших стихов я напоминал себе о том, что часть из них вполне могла бы быть всерьёз изменена, если бы вы прожили ещё хотя бы год.
Реальность оказалась и проще, и сложнее. Марина была крайне недовольна версией, напечатанной в «Невгине». По её словам, там были допущены грубейшие ошибки. Она не получила назад черновик и поэтому решила восстановить весь объём текстов по памяти. Это она перепечатывала ваши тексты, разбирая запутанный почерк, поэтому она твёрдо уверена, что знает ваши стихи наизусть. Что точно помнит пунктуацию и каждое слово. Возможно, так оно и есть, но в этом проекте она выступила как ваш соавтор. Разумеется, подсознательно – она очень серьёзно относится к вашей поэзии, и сознательное внесение изменений было бы для неё святотатством. Но это соавторство может быть и косвенным. Даже если в ваших текстах действительно было такое жуткое количество запятых, у них однозначно не было столь экспрессивных заголовков. К счастью, у меня есть несколько ваших прижизненных публикаций, с которыми можно сравнить версии Марины. Это газетные вырезки и одна рукописная страница с переписанными Мариной текстами. Разница очевидна. В черновике многоточий тоже гораздо меньше.
К тому же на сайте для каждого текста должна быть обозначена его категория. Это категории выбрала Марина, исходя из её картины мира. В итоге многие ваши тексты обозначены как эзотерические и мистические. В комментариях она объясняет, что вы были высокодуховным и почти просветлённым человеком с особыми способностями. Ваш атеизм для неё был временным, преходящим явлением, в будущем вы бы обязательно были рядом с ней в её духовном поиске.
Ирония, с которой я отношусь к увлечению моей матери эзотерикой, вовсе не делает меня самого рациональным человеком. В отличие от вас, я не марксист и не атеист. Даже мои просоветские симпатии основываются скорее на текстах Блока, чем на политэкономии. Я действительно с иронией отношусь к её взглядам на жизнь, но это скорее ирония по поводу профанации интересующих меня лично идей. Это ещё один момент, который разделяет нас с вами. Я знаю, что вы были однозначным атеистом и точно не приняли бы мою систему взглядов. Скорее всего, и мою, и её. Но в том тексте, который она восстановила по памяти, вы уже почти признали её правоту. За много лет до того, как она сама открыла для себя прекрасный мир махатм и биоэнергетики.
Эта ситуация заставляет взглянуть немного иначе на подборку, напечатанную в «Невгине». Если Марина права, то эта подборка тоже могла быть отредактирована в соответствии с представлением редактора о том, как должны быть представлены ваши тексты. Возможно, оба ваших посмертных собрания сочинений не являются вашей прямой речью. Они были пропущены через фильтр чужого сознания, прежде чем оказаться в моём. Не обязательно они были искажены, но такая вероятность всё равно остаётся. Даже ваши прижизненные публикации могли быть отредактированы. Хотя в последнем случае редакция точно была одобрена вами.
Вы не считали стихотворения чем-то незыблемым и неизменным и всегда были готовы переписать неудачную строку. Это тоже запомнилось мне из рассказов про вас в моём детстве. Конкретно про то, как вы спорили со своей подругой Еленой Фигуриной, считавшей, что её стихи – это её дети и переписывание было бы насилием над ними. Рассказы про ваши споры с Фигуриной показывают вас трезвым и далёким от восторженности человеком. Мама цитировала мне вашу эпиграмму, заканчивающуюся словами: «Так давайте не спорить по пустякам, / Что прекрасней – туалет или храм». Согласно описанию, это была эпиграмма на восторженные стихи либо речи Фигуриной, доказывавшей, что туалет – это тоже замечательное место для чтения и размышления. Я нашёл это стихотворение в черновике, оно реально хорошее, точное и смешное. Но рядом оказалось серьёзное стихотворение, посвящённое той же Фигуриной и целиком построенное на образе гитары как органа и поэзии как храма, который, тем не менее, давит самого поэта. Там сказано, что талант должен пробиваться сквозь стены, даже если они сложены из идеала. Получается, что я всегда неправильно понимал ваше реальное отношение к Фигуриной, считая его в первую очередь ироничным и игнорируя то, что среди ваших сохранившихся текстов хватает своих примеров восторженности и поэтичности. Дело в том, что чем позднее написаны ваши стихи, тем более трезвыми они выглядят. Впрочем, возможно, что я опять выдаю желаемое за действительное, пытаясь приписать вам свои эстетические пристрастия. Но поздние тексты реально выглядят трезвыми. Более того, корни моих эстетических пристрастий во многом основаны на чтении ваших стихов. Пожалуй, это единственное, чему вы меня действительно научили.
Эти несколько подборок – единственное, что досталось мне от вас. Единственное наследство. Фотографии и воспоминания родных и друзей несопоставимы с прямой речью. А это именно ваша прямая речь, даже несмотря на возможные искажения при публикации. Прямая речь вашего подсознания.
На самом деле это основная ценность поэзии – способность вербализовать невербализуемое. Передавать непередаваемое. Эмоции и ощущения. Страхи и сны. В абсолютном большинстве случаев эта ценность остаётся потенциальной: за века существования поэзии сложилось гигантское количество поэтических штампов и стереотипов, позволяющих складывать внешне правильные стихи без единого живого слова и тени мысли. Разумеется, такого рода тексты тоже передают личность автора, но для меня лично реальная ценность поэзии состоит только в способности человека впадать в архаический транс и вызывать слабый отзвук этого транса у читателя или слушателя. Выходить за пределы языка с помощью языка. Нырять в глубину. Если бы ваши стихи были лишь средством поднять социальный статус, выйти за пределы своего класса, я бы не стал писать эту маленькую книгу. Если бы они были только отражением ваших политических взглядов или только признаниями в любви вашей жене и детям, то я бы ограничился небольшой статьёй. Но вы говорите о том, что трудно повторить и сформулировать.
Можно составить целую схему из повторяющихся тем в ваших стихах. Белый цвет. Миф об Икаре. Семья. Но всё перечисленное в какой-то момент сводится к одному слову. Вы сами пытались назвать это бессмертием, совершая ошибку, которую до вас совершали тысячи молодых поэтов. Но в ваших стихах нет бессмертия. В ваших стихах – смерть. Ваша собственная смерть. Её неизбежность и неотвратимость. Необходимость жить, ощущая, как исчезает время. Вы почти ни слова не говорите в этих текстах про свою неизлечимую болезнь, почти не упоминаете про годы тяжёлой депрессии и алкоголизма. Всё, что предшествовало появлению стихов, буквально вынесено за скобки. У вас были тексты, описывающие этот аспект прошлого, но я про них не знал до последнего момента. Всё, что сохранилось, фиксирует ваш внутренний мир в последние год-полтора вашей жизни. Судя по этим текстам, вы были в полном сознании. Даже странно, что Марина и ваши друзья, точно читавшие эти тексты, не сопоставляли их с состоянием вашего здоровья.
Видимо, дело в том, что ощущение хрупкости существования и неизбежности смерти является общим опытом. Каждый разумный человек хоть раз переживал осознание своей смертности, вся наша культура основана на необходимости обмануть себя и смириться с этим фактом. Это осознание смертности может прийти самым неожиданным способом – лично меня в своё время разбудило описание авангардного фильма «Санитары-оборотни». Не сам фильм, а его описание в статье. Вы бы вряд ли даже обратили внимание на подобное кино, но меня тот текст обдал волной холодного ужаса. До него я знал, что смертен, но не понимал реального значения этого знания. Но тут банальные слова про умирающего человека, который видит море и белый пароход, словно последняя крупинка соли в стакан солёной воды, привели к кристаллизации. И нечто подобное наверняка было у всех. По крайней мере, у тех, кто читает стихи. Поэтому неудивительно, что ваши стихи воспринимаются при чтении не как частный опыт человека, с детства больного лимфогранулематозом. Ваш опыт близок и понятен всем, разница лишь в интенсивности переживания.
Конечно, это ощущение смертности не является единственной темой. Обычно оно просто присутствует в тексте, как белый фон. Иногда этот фон даже практически пропадает, причём это не означает, что речь идёт о слабых, «декоративных» стихах.
Здесь нужно уточнить: я вовсе не являюсь слепым поклонником, обожающим всё, что вы написали, лишь по той причине, что это написано вами. Конечно, у вас есть тексты, явно не дотягивающие до общего уровня. У всех есть такие тексты, тем более когда от автора остались в основном черновики. Сам феномен поэзии подразумевает определённую иерархию текстов и необходимость записывать всё, что к тебе приходит. Лучше всего про это сказал Элиот в предисловии к сборнику стихотворений Эзры Паунда. Даже величайшим поэтам лишь несколько раз в жизни удаётся написать нечто действительно великое. Только для того, чтобы поймать этот момент, нужно писать постоянно. Очень похожую мысль высказывал Готфрид Бенн. Я уверен, что вы даже не подозревали о существовании Паунда и Бенна: правый авангард в принципе не мог добраться до городской библиотеки. Но ваш пример в этом плане выглядит действительно убедительным. Вы писали всего три года. Судя по датам, дошедшие до нас тексты были составлены в основном в последний год. Судя по их количеству, в этот последний год вы писали беспрерывно. Мне лично по-настоящему нравятся только двадцать текстов, это сравнительно небольшой процент от общего числа. Но для реального понимания вас, или хотя бы для убедительной иллюзии этого понимания, мне необходимы все ваши тексты. Со всеми стилистическими ошибками, пафосом, уходом в штампы. Со всеми приливами и отливами, позволившими вам в итоге написать эти несколько светлых и спокойных стихов о собственной смерти.
Можно сказать, что тема смерти и связанные с ней напрямую тексты – это ядро вашего творчества. Вокруг неё, как вокруг солнца, вращаются остальные темы. Какие-то ближе, какие-то дальше. Какие-то темы выглядят холодными и безжизненными. Например, политика. Вы, безусловно, искренне верили в то, о чём писали. Но хорошо написать про то, во что ты веришь, ещё тяжелее, чем хорошо написать о том, кого ты любишь. Надо признать, что как раз лирика вам удавалась, в отличие от идеологии.
Если посмотреть на ваши тексты как на целое, то перед нами слепок внутреннего мира человека, который любил свою жену и двух маленьких детей, был счастлив возможности писать и старался не акцентировать внимание окружающих на одной своей проблеме. Конечно, другой читатель наверняка составит из ваших текстов свою картину, возможно, отличающуюся от моей. Но для меня лично это единственный более-менее ясный ваш портрет, всё остальное как в тумане. Но сопоставляя ваши темы и повторяющиеся образы, можно на миг взглянуть на мир вашими глазами. В принципе, это всё, что мне от вас нужно.
У вас совсем небольшой комплекс текстов. Но для меня эти тексты, пусть недатированные и собранные в случайном порядке, слились в одно целое. В небольшой метатекст, в котором разные темы переплетаются между собой до полного смешения. Решив разделить в отдельные фрагменты разные аспекты вашего творчества, я быстро понял, что это практически невозможно. Это было бы невозможно для любого автора, но в вашем случае само количество сохранившихся текстов давало иллюзию, будто их можно рассортировать. У меня это не получилось, хотя я очень люблю заниматься сортировкой и несколько раз брался за данную задачу. Всегда остаётся нечто, выпадающее за рамки структуры. Нечто единое, соединяющее в себе разные грани и исчезающее, когда эти грани разделяют. Анализируя комплекс ваших текстов, я оказался буквально в роли патологоанатома. Я копался в вашем втором теле. Теле, составленном из ваших текстов. Даже составил примерную карту образов, которую сейчас с сожалением удаляю. Потому что, отслеживая хронологию и использование цвета, легко забыть главное. Саму поэзию. Любое настоящее стихотворение является иероглифом. Разделение этих иероглифов на составные части помогает мне хоть слегка понять вас. Но это только моё представление, моя специфическая реакция на них. Думаю, мне нужно было оставить ваши стихи в покое. Не прикасаться к ним. Ограничится тем немногим, что я знаю про вашу жизнь. Но я всё-таки не смог себя остановить от попытки составить свой персональный каталог того, что невозможно каталогизировать.
В той дурацкой попытке я не просто разбил стихи по нескольким темам. Мне пришлось постоянно повторяться, используя один и тот же текст несколько раз в разных контекстах.
К примеру, хронологию и использование цвета я в итоге решил не выделять в отдельные фрагменты. Датированные тексты можно было бы сделать своеобразным скелетом, но их слишком мало, и по их качеству невозможно понять, какие из недатированных стихов были написаны в одно время с датированными. В свою очередь, цвет использовался вами очень лаконично. Он разлит по всему вашему творчеству, но как художник вы были бы минималистом, в духе позднего Ротко. Ваши стихи почти монохромны, в них никогда не использовалось больше двух цветов. Обычно это белый. Потом зелёный как цвет жизни. Алый и красный как кровь и огонь. Золотой как противоположность белому. Голубой и синий как цвета ностальгии, что явно связано с вашим подростковым стихотворением. Я уверен, что вы никогда не слышали про Ротко: наш с вами соотечественник и согорожанин был полной противоположностью советскому искусству. Не думаю, что его в ваше время упоминали даже в качестве отрицательного примера. Тем более не уверен в том, что вам понравились бы его полотна. Из ваших текстов мне ясно, что вам нравились импрессионисты. Из единственной статьи – что вы с интересом анализировали живопись Гейкина, довольно далёкую от стандартного соцреализма. Но из этого вовсе не следует, что вам в то время понравился бы столь радикальный авангард. Мне лично Ротко близок и интересен, я всегда стараюсь зайти в музей, где есть его работы. В том числе и в Центр Марка Ротко, специальный музей, открытый в Даугавпилсе в крепости. В этом году мы посетили его вместе с бабушкой, вашей матерью. Ей понравилось. Жаль, что вы не могли видеть эти картины нашими глазами.
В любом случае, если бы я был художником, то нарисовал бы ваши стихи в предельно лаконичной и абстрактной манере. Почти монохромными. С максимальным использованием белого фона. Но вы не были художником. Цвет для вас не был самодостаточным. Его значение в каждом тексте соответствовало смыслу текста.
Но я не умею рисовать. Я могу только пересказать то, что вы уже сказали. Составить каталог из образов, которые вросли в меня. Семья. Природа и город. Смерть. Ваш маленький, прозрачный до жути мир.
Это единственный момент, когда я действительно не хочу говорить в пустоту. Мне хочется услышать ответы на вопросы. Ещё больше мне хотелось бы, чтобы вы услышали, что я думаю про ваши лучшие стихи. Не про все. Про лучшие. Я хочу знать, что я понял неправильно. Чего я не понял.
Я хотел бы спросить, почему у вас нет ни одного текста про ваших мать и отца. Про деда и прадеда. Даже в стихах про войну вы не упоминаете того, кто её прошёл. В вашей поэзии есть только Марина и дети. Это странно: вы любили всю семью. Без исключения и разделения. Но факт остаётся фактом, стихов про ваших предков у вас нет. Только про потомков.
На самом деле вы успели написать про своих детей лишь три текста. Причём один – о ещё не рождённом Юрисе, то есть фактически его можно отнести к любви к жене. Это вовсе не означает, что эта тема для вас не была важной, скорее наоборот, она выглядит слишком важной. Когда вы пишете о нас, своих детях, в получившихся текстах нет ощущения присутствующей смерти. Даже в виде отрицания – по ним не скажешь, что вы воспринимали нас как некую гарантию продолжения себя в роде. Правда, в анкете, в ответ на вопрос о вашем представлении о счастье, вы пишете, что стремитесь прожить жизнь так, чтобы не было стыдно перед детьми. Следовательно, в вас было ощущение, что мы – своеобразные судьи, которые будут в будущем оценивать вашу жизнь. Только в стихах это ощущение никак не было сформулировано.
Я хотел бы спросить вас про ваши лирические тексты.
Не про все, к примеру «Я смотрюсь в тебя…» вопросов не вызывает. Это просто лучшее из ваших лирических стихотворений. Безусловно лучшее. Самое тихое, точное и наименее помпезное. Сравнение женщины с зеркалом напоминает схожее сравнение в тексте «Зеркало», но там оно прозвучало в более тёмном смысле. А этот текст про конкретного человека не несёт в себе никакого двойного смысла. Вы действительно любили Марину и действительно видели в ней себя.
Но меня поражают «Звёздные моря…» Это очень неожиданный текст. Неожиданный в том плане, что в нём однозначно описаны переживания влюблённого на ночном свидании. Человек замёрз. Спички отсырели, и ему нечем осветить циферблат. Обычная ситуация. Необычно то, что автор текста давно и счастливо женат, и нет ни малейших оснований предполагать, что вы хоть раз даже задумывались об измене. Более того, к тому времени вы давно бросили курить, поэтому никаких спичек в кармане у вас быть не должно.
Единственное объяснение для меня – текст основан на прошлом опыте. Ваше знакомство произошло как раз зимой, и если вы назначали друг другу свидания, то описание ожидания было бы именно таким. В противном случае перед нами чисто литературное упражнение, абстрактная фантазия. Это ещё одна вещь, о которой я хотел бы вас спросить. Был ли этот текст только фантазией и если нет, то что в действительности за ним стояло. Но у вас в черновике есть очень слабый текст на ту же тему. Томление влюблённого. И странный стих про верность как «клеть для поэта».
Я хотел бы узнать, почему, выбирая синонимы для своей любви, вы вспоминали первый лёд и небо, тяжёлое от белизны первого снега. Мне интересно ваше определение для «осеннего вдохновения». Оно беспристрастно. Под этим определением вдохновения лично я готов подписаться обеими руками. Но я не знаю, почему темы осени и снега для вас были так важны. Практически на уровне навязчивой идеи. Я очень хорошо знаю по себе, насколько сильны такие образы: в них, как в иероглифе, спрессованы различные значения. И это очень важно для меня – попытаться правильно прочитать это значение, каким оно было для вас. Очевидно, что осень и снег – синоним любви. Но за этим слоем кроется что-то ещё.
Мне интересны три ваших текста, которые можно смело назвать эротическими. В них вы становитесь реально откровенным, возможно, они изначально не предназначались для публикации. Но они опубликованы, и я считаю себя в полном праве внимательно их прочитать.
Естественно, ничего не называется прямым текстом, СССР 80‑х был пуританским местом. По крайней мере, официально. Но понять смысл написанного совсем нетрудно. В качестве фона происходящего «на грани пошлости» вы видите прошлое, и не похоже, чтобы вы этот образ использовали только ради рифмы. Очень откровенные тексты. Исключительно откровенные. Особенно признание в готовности пасть на колени и осознание, что этого мало. Лучшее в этой маленькой подборке – «Мы были небылью…»
Самый тихий и лиричный из текстов, которые можно назвать двусмысленными. В этом случае текст именно о любви, второй, материальный пласт текста еле заметен. Скорее на уровне интонации. Ощущение «боли, от которой поют», и сравнительно короткого, но безграничного экстаза единения. Я не буду касаться вопроса, кому именно больно, в этом тексте вы пишете от имени единства. Вы – это «мы». Интересно то, что в черновике отсутствуют последние слова: «несколько минут». Хотя это высшая точка текста.
Я хотел бы поговорить с вами про тексты, где вы описываете наш единственный общий опыт. Опыт сочинения стихов. В первую очередь про глубоко любимое мной «И всё вдруг превратилось в лучи…»
Его темы звучат для меня как музыка. Это поэзия, свет и ветер. Когда меня посадили, первые тексты, написанные мной, были именно про свет и ветер.
В этом мы с вами похожи. Это один из самых сильных ваших верлибров, описывающих процесс создания поэтического текста. Состояние, которое вы передаёте читателю, – это состояние транса, возникающее при вдохновении. Вы описываете его абсолютно реалистично, никакой духовности и знания, сходящего сверху. Просто описание определённого состояния сознания, отличающегося обострённым восприятием. Очень точное описание. Вместо цвета здесь описан свет.
Но я не могу понять, как после такого текста у вас могло появиться «В косую клеточку тетрадь…» Это же удивительно неровный текст. Он написан осенью 1985-го, то есть в последние месяцы жизни. Начинается он с сильнейшего сбоя ритма и заканчивается удивительно банальным образом: «в косую клетку тетради осеннего дождя». При этом данная неровность и корявость смотрится очень трогательно. Вам как автору полностью веришь в том, что вы «не можете не писать», поскольку сама структура текста подтверждает заложенное в нём послание. Послание о том, что автор – «ученик», который пишет корявой рукой, но который при этом одержим необходимостью писать. Если это сделано сознательно – то текст отличный. Но мне всё же кажется, что всё это получилось у вас бессознательно.
Или про ваш настоящий шедевр, «Как из колодца…»
Стих про память, природу и прошлое.
Если честно, я не очень уверен в технической стороне текста. Но даже если из колодца невозможно днём увидеть реальные звёзды, образ получился сильнейшим.
Получается, что надежду вы видели сквозь настоящее из прошлого. Будущего в структуре текста нет, на его место поставлена надежда, что говорит мне о многом.
Ещё есть ваш любимый миф. Одна из ваших сквозных тем. Метаморфоза. В первую очередь – Икар. Учитывая ваш интерес к роману Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и упоминание Мартина Идена в качестве любимого персонажа, можно предположить, что в действительности это была тема трансформации. В этом случае Икар вполне мог для вас быть образом саморазрушительной трансформации, саморазрушительного импульса. Этот импульс, по логике текста, можно укротить формулированием собственно стиха. Вдохновение без текста приводит к саморазрушению. Как в тексте «И у неба есть предел…», лучшем отражении ваших мыслей про миф об Икаре. Предел неба, за который ушёл человек в гордыне. Летний дождь вызывает ассоциацию с воском. Тот текст написан в июне, так что вы явно писали про реальный дождь. Возникает вопрос: имели ли вы в виду себя и собственную гордость? По крайней мере, в другом тексте про этот миф вы явно писали о себе. Цвет стихотворения – синий. Не голубой, хотя по контексту должен был быть использован именно этот цвет. Голубой для вас обычно был цветом детства и ностальгии. Синий, похоже, был чем-то иным.
Тема трансформации является ключевой в стихотворении «Эпоха возрождения».
Не только трансформации, это ещё и текст про любовь и историю.
Одновременно – самый откровенный ваш текст про собственное прошлое. Он полностью построен на советской точке зрения на историю, люди в нём «бродили во тьме религии» и «отдавали богу душу ещё при жизни». При этом текст явно говорит не об истории. Он говорит о вашей собственной жизни до встречи с Мариной. И ясно показывает, что эта встреча не спровоцировала процесс трансформации, но скорее совпала с его началом. По крайней мере, я прочитываю этот текст именно так. В любом случае, вы завершаете текст фразой «я не верю в случайность», то есть считаете эти события взаимосвязанными на уровне, который можно назвать мистическим. Но это может быть чисто моим прочтением, я сам интересуюсь вопросом случайности и синхронизации. То есть тоже не вполне верю в случайность.
Но главное в теме трансформации – это ваш самый неожиданный, почти мистический текст «Чайки над рекой…»
Его темами я поставил трансформацию и природу. Цветами – белый и чёрный, но не как противоположность, скорее как сочетание. Очевидно, речь идёт про черноголовых чаек, их много в Латвии.
Повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» была одним из первых текстов явно эзотерического содержания, доступных в СССР. Возможно, он воспринимался вами как фантастика. Эта книга точно была у нас дома, в детстве я её читал в качестве сказки. У меня даже был период, когда я считал любимым литературным жанром притчи, под которыми понимал «Чайку по имени Джонатан Ливингстон», «Скотный двор» Оруэлла и «Кролики и удавы» Искандера. Думаю, это много говорит о моём детстве. Сейчас, вспоминая книгу Баха, я воспринимаю её как некий прототип высокодуховной прозы Пауло Коэльо. Вы, конечно, не застали это замечательного мастера пустых банальностей, но Марине он очень нравится. Она даже прислала мне в тюрьму пару его высокоморальных книг, «Алхимик» и «Вероника решает умереть». Это было ужасно, дочитывал через силу.
В любом случае, я не могу себе представить, как книга Баха воспринималась в Советском Союзе первой половины восьмидесятых. Одно можно точно сказать: суть этой книги не просто в преодолении страха смерти, общем для всей эзотерики. Скорее это очередная история трансформации, ускоренного развития личности. Причина выбора морских чаек на роль примитивных обывателей, из среды которых вырывается герой, очевидна любому, кто хоть раз жил в приморском городе и имел возможность наблюдать за этим замечательным биологическим видом вблизи. Другое дело, что в тексте явно описаны пресноводные чайки. Несмотря на ремарку «здесь рядом море», я уверен в том, что речь идёт о даугавпилсской колонии пресноводных чаек, обитающих в городской черте. На въезде в город даже поставлена большая статуя в виде силуэта чайки. Именно они воспринимаются как «чёрно-белое совершенство». Если точнее – как реальная природа без символического значения, что, в свою очередь, тоже становится для вас символом.
В связи с упомянутой природой мне хотелось бы отдельно обсудить с вами основной корпус ваших текстов. Тот, что выглядит самым цельным и самым крупным. Фактически это готовая книга. Маленькая, но сильная. Если бы я был художником, то мог бы его нарисовать, сделать иллюстрацию к каждому тексту, потому что это самый визуальный слой ваших стихов. В одном из текстов вы прямо называете получившуюся картину «импрессионизмом».
Но если искать общее название для этой части вашего творчества, то это будет «Город и природа». Сперва я хотел отделить ваши «городские» тексты от описаний природы, но потом понял, что это две стороны одной медали. В данном контексте я бы очень хотел действительно поговорить с вами. Пересказать мою любимую книгу Камиллы Пальи и обсудить с вами мою гипотезу, что ваша любовь к городу была любовью к искусственной, прирученной среде, характерной для аполлонического течения культуры. Соответственно, ваши жуткие тексты о природе становятся отражением подсознательного страха перед дионисийским/хтоническим. Но эта теория является просто отражением моих собственных интересов. Уверен, что вы бы очень удивились такому объяснению и высмеяли меня.
Для меня этот слой начинается с двух ваших текстов про последствия Великой Отечественной. Эта тема сложилась у вас уже в 1983 году, началась буквально с первых стихов. Не только старательно прописанная тема экологии, но и размышление о том, как листья снова станут соком в деревьях.
Я бы говорил и говорил в пустоту. Про «Город мокрый…» – полную противоположность помпезной поэзии, лёгкую импрессионистскую зарисовку из городской жизни, напомнившую мне фильм Йориса Ивенса «Дождь», хотя я знаю, что у вас не было ни малейшего шанса даже узнать о его существовании. Про ещё одну лёгкую зарисовку – «Тучи чинные старушки». Кажется, что ваши городские стихи практически всегда написаны в безмятежном настроении. Складывается ощущение, что природа с её неумолимым циклом смены времён года всегда напоминала вам о старении и смерти, в то время как искусственная среда города давала иллюзию стабильности. Вы были абсолютно городским поэтом, Даугавпилс – второй по величине город Латвии, вы выросли в совершенно урбанизированной среде. За вашим окном был вид на гигантский завод. При этом ваши городские стихи оказывают куда меньшее воздействие на читателя за счёт своей безмятежности. Они смотрятся куда сильнее, если читать их в комплексе с остальными текстами и держать в памяти вашу биографию.
Моё сравнение ваших городских зарисовок с импрессионизмом целиком основано на тексте «Дождь и фонари из воздуха…» Описание ночного дождя в городе заканчивается прямым сравнением с картинами данного направления в живописи. В других текстах это только ощущается и поэтому работает сильнее. Самый сильный аспект – акцент на незаконченности. Автопортрет, который город рисует «на глянце улиц», исчезнет до завершения.
Но самый сильный из ваших городских текстов – «Город затаил дыхание…» Даже белый цвет перестаёт нести угрозу, когда переносится в город. Снег в «Город затаил дыхание…» кажется тёплым, словно бутафорская вата. Фраза «Белое повторяет бережно / То, что нельзя повторить» выглядит лучшим описанием самого механизма поэзии. Очень красивый текст. Он был напечатан сразу после вашей смерти, 31 декабря 1985 года. Следовательно, в нём описана ваша последняя зима. Бабушка вспоминает, что вы тогда лучились оптимизмом и были в отличном настроении.
После города начинается окружающий его лес. Хотя вокруг Даугавпилса нет настоящих лесов. Но для вас лес явно был очень важен. Сначала так, как в «Устав от себя…», стихотворении одновременно про природу и город. Оно было опубликовано 25 августа 1984 года под ужасным названием «Душа жаждет», надеюсь, что исчезновение этого названия из последовавших подборок связано с вашим личным решением.
Это единственный пример во всей подборке, где город выступает как однозначно негативная, замкнутая среда, в которой устаёшь от себя. В то время как природа оказывается местом успокоения и, если можно так выразиться, растворения. Хороший пример того, что любые отвлечённые схемы не выдерживают столкновения с реальностью. Мир всегда сложнее. Только любовь и книги не могли утолить ваше чувство горечи от себя.
Природа мрачнеет в «Голодный ветер жадно…» Текст с большим потенциалом, но явно не законченный. В детстве мне приводили его в пример как образец того, насколько хороши были образы в ваших стихах. Мать читала его наизусть, с восхищением, и добавляла, что вы так и не смогли найти подходящее завершение для этого текста. Представление о том, что стихотворение – это в первую очередь образ, осталось с ней навсегда: комментируя этот текст на stihi.ru, она написала: «У Валдиса нет НИ ОДНОГО стихотворения без образа, а в этом, как у начинающего и без опыта, аж сразу ТРИ подряд густо».
В итоге именно этот текст прямо повлиял на мои первые попытки написать стихотворение.
Перечитав его в зрелом возрасте, я могу сказать, что это реально хорошее описание осени. Явная неудача с финалом связана скорее с тем, что вы пытались найти ясное, осмысленное завершение. Чистое, безэмоциональное описание умирания природы сработало бы сильнее. Важный аспект: в двух существующих подборках последние две строки полностью различаются. В «Невгине» напечатано: «Небо без птиц / И человек грустит…», в то время как на stihi.ru: «И уже летят снегири / А за ними и первый снег…»
Разница очевидна. Что ещё интереснее – проверяя архив, я нашёл третий вариант. Внезапно оказалось, что этот текст был напечатан 3 декабря 1983 года, что сделало его самым ранним датированным вашим текстом. Более того, это не дебют: в заметке сказано про «новые стихи Вольдемара Крумгольда» и специально добавлено, что дебютирует новый автор, Фаина Осина, хорошо мне лично знакомая. Возможно, это просто ошибка в датировке. Если нет – то рассказанная мне история оказалась немного ошибочной. Самое важное: текст имеет заголовок «Перед зимой» и заканчивается словами «И уже несут снегири / На крыльях первый снег…»
Глубокая ночь. Годовщина вашей смерти. Я всё пишу и пишу, не в состоянии остановиться.
Про тихий, спокойный текст «Осень!» Один из тех, в которых совершенно не ощущается близость вашей смерти. Он был опубликован 22 декабря 1984 года, за год до вашей смерти, так что впечатление правильное. Улетающие стаи напоминают о том, что они вернутся. Тот факт, что вы не видели неба над Болдиным, вызывает уверенность в том, что вы его ещё увидите. Это текст человека, у которого всё ещё впереди. Учитывая реальную ситуацию – внушает уважение. И позволяет поверить в то, что вы выглядели уверенным и счастливым. Судя по упоминанию Болдина в воспоминаниях Соловьёва, вы могли обсуждать с ним нечто похожее незадолго до смерти. Либо он просто вспомнил один из напечатанных текстов, забыв, что это было за целый год до смерти. В любом случае, насколько я знаю, вы это небо над деревней так и не увидели. Мне кажется, что меня в детстве привозили туда, в одну из поездок в Псков. Я смутно помню музей в деревенском доме. Неба не помню, видимо, было пасмурно.
Про странный текст «Оконная икона…» Помимо привычных уже тем вроде осени, ветра и дождя у вас внезапно появилась религия.
Фактически это первый раз, когда вы активно используете в тексте однозначно религиозную символику. Причём по полной программе: осенний ветер бьётся с поклонами в окно, как в икону. Если прочитать текст прямо, то получается, что природа поклоняется предмету, связанному с цивилизацией и домашним уютом. Впрочем, я уверен, что вам самому такая интерпретация точно не пришла бы в голову.
Про один из сильнейших ваших текстов в целом. Самых сильных и самых ясных. Это «Миллионы растерянных листьев…»
Снова природа, смерть и ветер. Цвет, как обычно, зелёный.
Редкий случай вашего внутреннего диалога. Обычно текст вашего стихотворения уже является ответом, предваряющий его вопрос просто не озвучивается. Здесь же проявляется изначальная эмоция. Даже не страх. Несправедливость. И попытка найти ответ в цикле времён года, то есть в круговороте природы. Вы описываете смерть как наступление осени и зимы. В случае с листьями прозвучавший в финале ответ выглядит ясным и удовлетворительным, но мы должны учитывать, что вы явно пишете о себе. И с этой точки отсчёта финальный вывод выглядит действительно жутко. Это противоречие было бы несущественным, если бы вы были верующим. Для них вывод про грядущую весну оправдан. Для вас, насколько я знаю, нет.
Забавно, что в текст просочился постоянный штамп, точнее даже характерная ошибка советской поэзии, а именно использование слова «жилы» в значении «кровеносная система». При переносе на растения этот штамп превратился в полный абсурд.
В остальном – прекрасное стихотворение.
Следующие ваши два текста я просто очень люблю. В моей системе ценностей это шедевры, после которых действительно можно было спокойно умирать. В них вы достигли той чистоты и точности, которую я всю жизнь безуспешно пытаюсь повторить. Во-первых, это «В белом до боли яблоня…»
Один из самых сильных ваших текстов. Ещё один пример того, как вы воспринимали природу. В этом случае даже цветущая яблоня напоминает вам о смерти. Ощущение святости – гнетёт. Белый цвет напоминает о холоде даже в жару. В ритме текста растворяется изначальная рифма, пока не возникает последний образ, полностью выламывающийся из структуры. Зима, в которую вы умерли, была действительно очень холодной. Уверен, что пчёлы тогда замерзали.
Ещё один действительно блестящий текст – «Переболею белым белым». Белый цвет в тексте прямо ассоциируется с болезнью, хотя подтекстом может быть и душевное беспокойство или необходимость писать. Ночь – со спокойствием. Большинство ваших лучших поздних текстов описывают либо смерть, либо спокойствие, складываясь в картину спокойствия перед лицом смерти. Интересен сквозной образ осоки как «режущего средства» природы, в данном случае она режет память.
Очень красивый текст. Наверное, первый ваш текст, который я полюбил.
Я хотел бы знать, почему следующие тексты приобретают черты самого настоящего театра жестокости. Это начинается в залитом алым цветом стихотворении «Забинтованное ночью…»
Жуткий текст. Жутчайший. Ваша тенденция переносить на природу человеческие эмоции и ощущения доходит здесь до конца. Вы описываете пытку. Озеро «забинтовано ночью» и проткнуто «ножами осоки». Рассвет срывает повязку и открывает раны. Фраза про «привычную боль» напоминает о том, что химиотерапии и операции не могут быть безболезненными.
Следующий пример: «Облака хмурые странники…» Ещё один мрачный текст про природу. В этот раз заря не ассоциируется с кровью и пожаром, она просто плачет, поскольку зимние облака накинули вуаль на её лицо. В роли слёз выступают снегири, действительно неплохой образ.
Мягче всего этот подход выражен в достаточно светлом тексте «Возвращение». Светлом, несмотря на использованные цвета, а именно красный и чёрный.
Один из лучших ваших рифмованных текстов. Достаточно традиционный для того, чтобы его напечатали в те годы в городской газете и потом, через много лет, написали на этот текст вполне неплохую песню. Хотя мелодия, которая звучит во мне при чтении этого текста, совершенно иная. Гораздо темнее.
Именно на этом, рифмованном и сравнительно оптимистичном тексте, становится окончательно видно, что большая часть описаний природы в ваших текстах окрашена довольно мрачным оттенком. В данном случае закат вызывает у вас ассоциацию с сожжённым заживо лесом. То есть вы описываете это без тени трагизма, но сам ассоциативный ряд любопытен, особенно если сравнить с остальными примерами такого подхода.
Ещё у меня сперва вызывал интерес вопрос, не могла ли фраза «мир летящий вечен» быть результатом банальной описки, поскольку по смыслу больше подходит «миг». Оказалось – да, описка, в опубликованном при жизни варианте напечатана именно буква «г».
Есть ещё текст, названия которого я не знаю. На stihi.ru он обозначен как «М‑а-р-и-н‑а…», но это явная самодеятельность самой Марины, вынужденной придумывать броские заголовки для привлечения внимания читателей. По крайней мере, я лично воспринял это именно так.
Множество различных тем сходятся в одном этом коротком тексте. В моём архиве были поставлены темы: ветер, время, семья, любовь, природа, смерть. В этом тексте вы как автор видны, как застывшее насекомое в окаменевшей смоле. Вы любите свою жену тихо и медленно, но время любви не подвластно. И вы знаете, что вас срубят внезапно. Давнее моё подозрение, что, описывая эмоции «природы», вы описывали себя, полностью подтвердилось этим текстом. Здесь вы пишете про себя как про сосну, а про Марину как про море.
Красивый и грустный текст. Полностью ясный.
Но главное: «Я стою на скале…» Про него мне было бы трудно спросить у вас что-то конкретное.
Просто это один из немногих ваших текстов, выпадающих для меня из всех возможных категорий. Его невозможно анализировать, при этом это мой самый любимый ваш текст. На нём стоит дата, 5 января 1985 года, самое начало последнего года вашей жизни. 4 января был мой день рождения, но я сомневаюсь, что вы всерьёз его праздновали.
Никаких скал и тем более моря возле Даугавпилса нет, к тому же начало января в Латвии трудно назвать сезоном бурь. Однако текст в итоге получился документально точным. Если считать спокойствие сквозной темой, то «Я стою на скале» является воплощённым спокойствием. Сейчас я живу рядом с морем, скалы у нас тоже есть. Один раз мы встречали рассвет на холме в сильный шторм. Стояли под проливным ливнем и смотрели вниз, на Ла-Манш. С того момента я воспринимаю этот ваш текст как свой. Словно вы описали в первый год моей жизни событие, случившиеся со мной через 28 лет.
Нет доступных изображений.Последний аспект, о котором я хочу говорить в пустоту, является не слоем, а фундаментом, основой всего вашего творчества. Это скорее сердце, чем кожа и мясо. При этом выделить из ваших текстов те, что конкретно посвящены теме смерти, было не так уж и просто. Дело в том, что в большинстве ваших текстов я вижу вашу смерть. Возможно, это очередной пример эффекта Кулешова. Не знаю, читали ли вы про него, вы были эрудированным человеком, но история раннего советского кино явно не входила в круг ваших интересов. Я же очень увлечён этой великой попыткой создания универсального языка. Открытие эффекта Кулешова было одним из ключевых моментов в истории киноискусства. Он очень прост: если одно и тоже лицо смонтировать с разными кадрами, то зритель увидит в нём разные эмоции. Смонтировать с тарелкой супа – у лица «появится» голодное выражение. С кадрами похорон – скорбное. Ваше лицо и ваши тексты смонтированы для меня с вашей могилой.
Поэтому я хотел сделать эпиграфом к этому большому тексту одно малоизвестное стихотворение. Оно современное, написанное моим виртуальным другом Владимиром Навроцким. Вы, конечно, не поняли бы, что такое «виртуальный», самое близкое к этому понятие в ваше время – друг по переписке. То стихотворение называется «СМРТ», что переводится с сербского как «смерть». Каждый раз, когда я читаю ваши стихи, мне приходит на ум начало этого текста:
Полик ли подметаешь, сёстры, жалеешь ли
муравьишку, братцы –
пишешь на самом деле всегда об одном и том же,
стараешься явно не обозначать, хотя непонятно,
зачем стараться,
это же всё равно у любого текста под тонкой кожей:
смерть как прекращение существования белкового
тела,
смерть как тихое мягкое лёгкое слово, написанное
по снегу мелом.
Ваши стихи, для меня, состоят именно из таких слов. Нарисованных по снегу мелом. Но только несколько текстов открыто говорят об этом.
Этот слой начинается для меня с «Пламя свечи чуть дрожит…»
Это второй ваш текст, однозначно религиозный по символике. Огонь свечи сравнивается с молитвой, как визуально (сложенные руки), так и в сравнении с дрожащим голосом. Хотя не похоже, что вы в жизни хоть раз молились. Единственное, что мешает этому тексту войти в какую-нибудь хрестоматию христианской поэзии, – это вывод. От догоревшей свечи не останется ничего, кроме расплавленного воска. В варианте, выложенном на stihi.ru, слово «ничего» специально выделено. Возможно, Марина права: за вашим атеизмом скрывался интерес к религии, по крайней мере, к её эстетической составляющей. Если это так, то рано или поздно вывод про «ничего» мог бы смениться на нечто.
Затем идёт главная загадка среди сохранившихся текстов. Это «Я хочу я должен… / Время собирает».
Дело в том, что этот текст вполне может оказаться двумя текстами, по крайней мере, именно так две его половины выложены Мариной на stihi.ru. Первая половина стала коротким текстом про смерть. В свою очередь, вторая стала текстом про время. По отдельности они смотрятся как два обрывка, совершенно несформулированных и невнятных. Вместе они начинают работать. Тем не менее, теперь мне неясно, получился этот эффект сознательно или просто два текста оказались на одной странице черновика и совместились при публикации. Начальное «Я хочу я должен» удивляет тем, что в нём вы признаётесь, буквально, в желании умереть. Хотя мотивация этого желания сформулирована столь неясно, что можно прийти к выводу, что вы сами не понимали, почему написали эти слова. И ещё интересно отсутствие запятой между «хочу» и «должен». Словно это не перечисление, а разные варианты начала текста в черновике. В неизвестном мне черновике, поскольку в найденной тетради есть только первая половина. Возможно, в другой этот текст был продолжен.
Затем идёт «Я строю судьбу свою…»
Простой, немного корявый, но пронзительный текст. В нём не произносится слово «смерть», но он явно является подведением итогов жизни. На самом деле вы хорошо описываете тут всю свою предыдущую жизнь, которой действительно не хватало «гармоничности», поскольку в тех условиях просто прожить жизнь уже было подвигом.
Следующий текст, с ясным началом «Да я умру…» входит в число моих любимых.
В своих стихах на тему смерти вы демонстрируете целый набор решений, позволяющих смириться с неизбежным без мистического дурмана и связанного с ним самообмана. В «Да, я умру…» вы мыслите близко к Эпикуру с его «Смерть не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти ещё нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». Хотя сам текст скорее напоминает римских стоиков. Немного неясен финал: другие должны говорить вместо вас или про вас? Скорее всего, первое, но при первом прочтении я воспринял текст как указание на необходимость рассказать о вас, что во многом стало основой для этой маленькой книги.
Интересна дата. 22 июня, день начала Второй Мировой. Скорее всего, это день реального солнцестояния, обычно оно выпадает на это число. И день перед Лиго.
Ещё один настоящий шедевр – «Для бабочки…»
Почти идеальный текст, лаконичность которого совпадает с темой. В этот раз вы находите спокойствие в сопоставлении с быстротечностью жизни бабочки. Хотя от текста остаётся скорее ощущение сравнения с космическим временем, рядом с которым мы все бабочки. Этот текст оказал на меня огромное влияние, но мне ни разу не удалось написать ничего сопоставимого.
Затем идёт главный сюрприз, «Песня о Времени». Самый неожиданный для меня текст. Это действительно песня. Настоящая песня, для неё была написана мелодия, и я её помню с детства. Мне её когда-то пели. То есть я не помню момента, как мне её поют, это было, видимо, очень давно. Но когда я увидел этот текст, выложенный на stihi.ru под банальным заголовком «Песенка о времени», то с изумлением обнаружил, что могу её целиком спеть. При том что мелодия звучит очень ломаной и нестандартной по меркам советской эстрады или, тем более, бардовской песни.
Сам текст очень силён. Но при этом действительно жуток. Вы первый и единственный раз прямо говорите о том, чего боитесь. О том, что вы ощущаете себя пленником времени, что вам важен каждый день, что вы пытаетесь догнать себя. И главное – что вы не хотите быть прошлым.
Все варианты самоуспокоения отброшены, всё сказано прямым текстом.
Песня сохранилась только в варианте, перепечатанном моей матерью. И, как все эти тексты, отличается невероятным количеством многоточий.
Затем идёт «Усталый, как талый снег…» Очень личный текст. Практически автопортрет. Усталый и гордый человек идёт через боль к лучшему. И наличие этой боли не мешает ему быть счастливым. Единственное слабое место стихотворения – рифма «его – никого», типичный случай проблемы с завершением. В остальном прекрасный текст.
И, наконец, «Прощай!»
Поэзия всегда была методом анализа языка. В каком-то смысле самоанализа. И текст «Прощай!» представляет собой идеальный образец такого самоанализа. Слово раскалывается на два смысла, каждый из которых откровенно смягчается. Простить, как явление природы, и до встречи когда-нибудь. Учитывая, что слово «прощай» подразумевает окончательное расставание, это финальное «когда-нибудь» звучит в высшей степени неуютно. Сам текст очень неуютен и выглядит именно прощанием. Марина утверждает, что это был ваш самый последний текст.
Что вы действительно попрощались.
Вы умерли внезапно. Никакого ухудшения состояния и долгой болезни под наблюдением врачей. Наоборот, в свою последнюю осень и зиму вы были, по крайней мере внешне, совершенно здоровым и счастливым человеком. Андрис говорит, что с вас даже сняли инвалидность. По всем признакам вы переживали творческий пик, и трудно было сказать, кто бы из вас получился, проживи вы ещё несколько таких же плодотворных лет. Но этих лет у вас уже не было.
Зима была очень холодной. Тем не менее, это не могло остановить настоящих футболистов. Вы ведь оставались активным болельщиком и непрофессиональным игроком. Даже ездили на выезд в Вильнюс, на матч со «Спартаком». Болели, естественно, против москвичей, как и полагается прибалту. Вы в свой последний год даже сколотили непрофессиональную команду, часть которой составили ваши новые друзья из поэтического кружка, и неплохо выступили на городском соревновании. Забавно, что в вашей поэзии столь горячая любовь к спорту никак не отразилась.
Той зимой вы продолжили тренироваться и играть в помещении. Этим помещением был спортивный зал в Доме культуры ЛРЗ. Прямо возле работы, под лестницей, ведущей к дому. Последний акт вашей жизни прошёл всё в тех же постоянных декорациях.
Прямо в рабочее время два цеха пошли играть друг с другом. Возможно, это было нарушением рабочей дисциплины – ваше дальнейшее поведение указывает именно на этот вывод. Именно в этом помещении, во время вашей последней игры, вас перекинули через себя. Марина не может вспомнить имя того человека, она только говорит, что он был молод, физически силён и занимался самбо. В любом случае, здоровому человеку такое падение никак не повредило бы. Но вы не были здоровым человеком. Как ни парадоксально, вас добило занятие спортом.
Сейчас я приступлю к самому тяжёлому для меня эпизоду во всей этой маленькой книге. Моя мать всерьёз подозревает, что с этим падением не всё ясно. За десятилетия она только один раз рассказала о том, что действительно думает. Я тогда не поверил своим ушам: судя по тому разговору, она подозревает, что вы были убиты. Тогда прозвучала даже фраза про КГБ. Но в тот момент я так и не понял, на каких основаниях у неё появились эти подозрения.
Предположил, что это нечто параноидальное, и надолго забыл. Хотя подсознание всё равно продолжило переваривать эту странную информацию. После нашей поездки в Париж она всплыла в форме очень необычного сна. Там не было вас, про вас только говорили. Я не видел лиц говоривших, это был словно случайно подслушанный разговор. На заснеженной трамвайной остановке, похожей одновременно на даугавпилсский район «Химия» и окраину Монпарнаса, где мы наткнулись на трамвай, пока безуспешно искали блошиный рынок. Такого района нет в нашей реальности. История, которую я там услышал, тоже далека от реальной. В этом сне вы были убиты в 1989 году. Ваша смерть была связана с двумя событиями. С надвигающимся распадом государства и с окончанием войны в Афганистане. Вы должны были играть некую важную роль в обоих событиях.
У меня нет рационального объяснения появлению в этом сне слова «Афганистан». Когда я через полгода услышал его от матери, задав прямой вопрос, мне стало действительно страшно. Более того, контекст, в котором прозвучало это слово, вызвал у меня желание уничтожить весь написанный к тому моменту черновик этого текста.
История, которую она рассказала, не имеет никаких подтверждений ни в одном из открытых источников. Никто из ваших друзей и родственников не подтверждает её. Мне все говорят, что это абсурд и что я не должен верить в это и тем более принимать так близко к сердцу. Если я про это не напишу, то никто больше не узнает про саму вероятность существования этой стороны вашей личности. Текст превратится просто в апологию, написанную к круглой дате. Но я уже услышал про это, и сам факт этого знания отравляет мои мысли. Разрушает ваш образ, бывший для меня почти безупречным. Раскрывает то, чего я совершенно не ожидал найти. Вашу тень. Тень вашего идеализма. Я хорошо знаю по себе, как идеализм может привести к морально спорным решениям, но у меня были другие идеи и другая мораль. С точки зрения этой морали сама возможность того, что было мне рассказано, вызвала глубокий шок.
Моя мать и ваша жена, самый близкий вам тогда человек, сказала мне, что вы до самого конца оставались твердокаменным коммунистом и патриотом своей страны. Вы встречались с диссидентами, и они пытались вас переубедить, но ваша вера оставалась тверда. Под личиной обычного рабочего литератора середины восьмидесятых скрывался истинно верующий в торжество коммунизма в духе двадцатых или тридцатых годов. Среди вещей, в которые вы верили, была справедливость войны в Афганистане, отодвигавшей опасность от южных границ СССР. В это я вполне верю: ваш младший брат как раз тогда пошёл служить и даже хотел отправиться выполнять интернациональный долг. К счастью, у него это не получилось.
Но дальше Марина говорит то, что не подтверждается никем и ничем. Якобы на ЛРЗ сложилась некая структура из родителей солдат, посланных в Афганистан. Якобы эта структура каким-то образом протестовала против этой войны. Якобы вы её вычислили. И, что самое шокирующее для меня, якобы вы поступили с этой информацией согласно вашим убеждениям.
За десятилетия после падения СССР на поверхность всплыло многое из происходившего в ваше время. Повторюсь, мы сейчас точно знаем, кто вывешивал в Даугавпилсе красно-бело-красные флаги. Если бы на ЛРЗ было диссидентское движение, которое закончилось арестами и судами, то про это наверняка было бы хоть что-то написано. Но я не нашёл ни слова, ни упоминания. Даже намёка на нечто подобное нет ни в каких открытых источниках. Всё говорит о том, что Марина не так вас поняла.
Но меня шокировало то, что эта ситуация даже теоретически была возможна. До этого момента я постоянно говорил себе, что вы были другим человеком, жившим в другое время и с другой картиной мира. Что вы – это другое. Что я никогда вас не знал. Но только в этот момент я реально почувствовал, что вы были живым человеком, со своими ошибками и заблуждениями. С заблуждениями, которые не совпадали с моими. Что вы не обязательно совершили, но всё равно могли бы совершить нечто подобное, и вас бы не мучила совесть, поскольку вы бы поступили по совести. До этого момента вы присутствовали в моём сознании как безусловный моральный авторитет, забронзовевший за десятилетия. Буквально нависавший над моей жизнью. Я просто забыл, что идеальных людей не бывает. Что у каждого есть тень.
Правда, у матери есть и вторая теория. Совершенно банальная, даже мелочная. В этом случае вы совсем не похожи на пламенного коммуниста с не менее пламенным взором. Даже наоборот, в этом случае вы вполне совпадаете с другими воспоминаниями про вас.
Незадолго до смерти у вас украли джинсы. Вы всегда были на удивление неряшливым и совершенно не заботились о своём внешнем виде, одеваясь всё время в одно и тоже. Эти истории про вас полностью совпадают с моим собственным поведением. Меня тоже невозможно заставить сменить привычную одежду, и я сам никогда не понимаю, как она на мне выглядит. Однако ваши родственники достали для вас джинсы, бывшие тогда огромным дефицитом. И в первый же день их украли у вас в раздевалке. Когда вы сообщили об этом, вам ответили, что вы лжёте, поскольку ничего подобного у вас никогда не было. Это было оскорбление, а вы не умели сносить оскорблений. В итоге у вас начался конфликт с некими не названными мне людьми. Вы даже говорили Марине, что у вас в связи с этим скандалом сложилась некая очень неприятная ситуация.
Если честно, я отношусь к обоим рассказанным предположениям как к искреннему преувеличению. Ей необходимо каким-то образом найти логику в вашей смерти, объяснить необъяснимое. Поэтому любой вариант, как политический, так и материалистический, подсознательно гиперболизируется. Приобретает повышенное значение. Иначе придётся признать, что в вашей смерти не было ничего символического или романтического. Что она была неизбежна с самого начала. Неотвратима. Легко впасть в иллюзию: в последнее время вы выглядели очень здоровым. Даже упоминают, что с вас сняли инвалидность.
В любом случае, вы в тот день упали на твёрдый пол. Очень болезненно. Вас привезли домой, оставили отдыхать. Была скорая, вы сказали врачам, что упали дома. Марина до сих пор считает, что если футбольный матч происходил в рабочее время, то вашу травму нужно было официально объявить травмой на производстве. В этом случае мы бы получали другую пенсию и наша жизнь, по её мнению, была бы совсем иной. Но история не знает сослагательного наклонения. Вы сообщили под запись, что сами упали, по неосторожности. На следующее утро вы не проснулись.
Я помню тот холод. Очень смутно, это моё первое воспоминание в жизни. И в этом воспоминании очень холодно. Я смотрел на тело, из которого уже исчезли вы, и у меня пробуждалось то, что потом станет моим сознанием.
Потом я снова ничего не помню. Не помню похорон. От них осталось огромное количество фотографий, их на порядок больше, чем осталось от всей вашей жизни. Моя мать на этих фотографиях выглядит постаревшей на несколько десятилетий, на неё страшно смотреть. Рядом с ней вся семья, обе ветви. Даже Андрис, отпущенный из армии. Думаю, это мог быть последний момент, когда всё это было одной семьёй.
Кроме родственников на фотографиях огромное количество народа. Вы всё-таки были очень общительным человеком.
Вас закопали на вершине холма. Весной произошёл паводок, всю нижнюю часть кладбища залило талой водой. Но ваша могила была гораздо выше. Посаженные на ней туи намного переросли окружающие деревья. Они до сих пор выше. В последнюю поездку я отломил от одной из них две ветви. Для своих целей, очень далёких от марксистского рационализма.
В первую зиму прямо на вашей могиле свила гнездо и вырастила птенцов пара клестов. Всё перечисленное могло бы стать хорошим сюжетом для ваших стихов. Природа словно комментировала вашу смерть, то есть делала ровно то же самое, что вы описывали в стихотворении за стихотворением.
Первое время на могиле стоял простой памятник с красной звездой. Я не помню его, но сохранилась фотография, на которой я стою возле этого памятника и отдаю ему честь. Потом там поставят большой мраморный памятник. В знак того, что под ним похоронен поэт, на памятнике нарисуют перо и чернильницу. Начиная с определённого момента, эта могила станет для меня сакральным местом. Я буду приходить к вам. Молчать. Думать. Два раза я буду заниматься на вашей могиле сексом. В этом не будет ничего святотатственного, скорее наоборот, это будет для меня ритуалом, освящающим отношения.
Вас не забыли, но про вас помнят совсем немногие. Поэзия вообще потеряла своё значение за последовавшие годы. Единственная более-менее крупная публикация всё равно осталась на уровне региональной прессы. Наверное, есть только один человек, жизнь которого изменило знакомство с вашими стихами. Это я. Хотя я давно не пытаюсь писать так, как писали вы.
Просто я рос в вашей тени. Не в юнгианском значении этого термина, просто в тени памятника с белым пером на сером фоне. Рядом с женщиной, которую сломала ваша смерть. Она некоторое время надеялась возродить вас во мне. В буквальном смысле: она видела во мне ваше прямое продолжение и явно надеялась воспитать из меня кого-то похожего на вас. Мои первые стихи, наивные и корявые, сравнивались с вашими лучшими текстами, причём доказывалось, что я начинаю с того момента, где вы остановились. Я относился к этому утверждению скептически, но сам факт, что с пятнадцати лет я пытался писать, говорит мне сейчас о многом. Хотя я в итоге и взбунтовался против матери и начал отрицать всё, связанное с этим периодом в моей жизни. Всё равно в моём подсознании закрепилось ощущение того, что я живу чужую жизнь. Что всё, что я переживаю, не было пережито вами. То, что читаю, – не было вами прочитано. То, что вижу, – не видели вы.
Поэтому я и начал писать. Изначально это была попытка дописать недописанное вами. Продолжить вас в самом прямом смысле этого слова. Но мои тексты сразу были другими, несмотря на все попытки поймать мелодию, которую слышали вы. Этот личный проект впоследствии трансформировался в желание прожить собственную жизнь. Но всё равно у меня всегда оставалось это неуютное ощущение жизни взаймы. Восприятие вас как эталона, на фоне которого моя собственная жизнь остаётся неудачной, нереализованной. Я прожил дольше вас, годами попадая в самые безумные, рискованные ситуации. Но вы всё равно оставались для меня внутренним взрослым, который смотрит на меня сверху вниз, с высоты цельной, правильной жизни.
В итоге во мне сформировалась чувство, что я обязан рассказать про вас. Что это мой кармический долг.
К сожалению, я не верю в то, что вы меня услышите. Возможно, я мистик, но я не верю в сохранение сознания после смерти тела. Скорее в растворение в материи, возвращение в изначальный хаос. То, чему я поклоняюсь, несмотря на отторжение, вызываемое словом «поклонение», не является сознанием. В том числе и вашим сознанием, пережившим биологическую смерть тела. Однако мне бы очень хотелось поверить в то, что вы меня слышите и понимаете.
Мне нужно вам многое рассказать.
Показать.
Дать почувствовать через моё тело и мою память.
Рассказать про ребёнка, который плачет в коридоре перед уходом в детский сад.
Оставив за собой ваше мёртвое тело.
Про детский сад, скорее всего, уже другой.
Воспитательницу-садистку, моё первое столкновение с властью и контролем.
Про детство в период заката империи. С гражданскими войнами на окраинах и баррикадами в столицах. Рассказать вам про то, как я стоял во дворе бабушкиного дома. На улице, которая тогда была улицей Карла Маркса. Смотрел в чёрное небо и ждал начала боёв, с линиями трассирующих пуль. Мне было восемь лет.
Про первый класс. Первые конфликты. Отказ учить латышский.
Про взросление в библиотеках. Годы на домашнем обучении, без реального общения с реальными людьми.
Про разнообразные религии и секты, в которых занималась богоискательством Марина, приводя меня всюду с собой.
Про разнообразные экономические структуры, в которые она слепо вступала в надежде быстро разбогатеть. Или хотя бы выбраться из той жуткой нищеты, в которой мы оказались в начале девяностых. Годами единственным стабильным источником дохода в семье была мизерная пенсия по потере кормильца. То есть по потере вас. Разумеется, эти структуры состояли из мошенников, зарабатывавших деньги на таких, как Марина.
Мне бы хотелось рассказать вам про её попытки стать народным целителем. Про жадное чтение псевдонаучных и антинаучных книг в мягких обложках. Это привело к созданию цельной и непротиворечивой картины мира, в котором тяжелейшие формы рака успешно лечатся голоданием, прополисом и йодом, залитым в кисель. Ну и уринотерапией, конечно, мне бы не хотелось вам объяснять, что это такое. Она десятилетиями ведёт свой собственный крестовый поход против официальной медицины, рака и смерти. Пытаясь переиграть то старое поражение. Спасти кого-то вместо вас. Рак и смерть всегда побеждают, но она не сдаётся. Менталитет крестоносца остался с ней навсегда.
Я бы рассказывал. И рассказывал. И рассказывал.
Про кризис личности, который произошёл, когда я поступил в экспериментальную школу и обнаружил, что не могу общаться с людьми. Что мне физически плохо в классе и что в коллективе я выгляжу и веду себя как полный идиот. Про депрессию. Мысли о самоубийстве с внимательным чтением «Мифа о Сизифе».
Про момент в лесу, когда я поверил в то, что схожу с ума.
Про первый арест. Про то, как детский страх перед милицией трансформировался в юношескую ненависть к полиции. Вообще про ненависть.
Первый допрос, где я наговорил много лишнего. Первую акцию прямого действия. Первую влюблённость, тяжёлую и неудачную.
Я бы говорил вам про страх потери контроля. Про алкоголь и наркотики. Особенно про наркотики.
Про первую ночь в тюрьме и первый день на воле.
Про влюблённости и любовь.
Про Москву и Лондон.
Я бы хотел рассказать вам подробно всю свою жизнь. Всё, что вы пропустили. Но только так, чтобы вы это услышали и рассказали в ответ про свою реальную жизнь. А не тот образ, что у меня сложился.
Это был бы огромный текст. Огромный и очень подробный. Но я не буду произносить его целиком для вас, в вашу пустоту. Только один эпизод. Короткий, но важный для меня.
В ноябре 2002 года я находился в рижском КПЗ, ожидая отправки в тюрьму. Там было много людей. Они были разными. В том числе и такие, с кем можно было говорить. Один из них спросил меня, чем я увлекаюсь. И я сказал, что пишу стихи. Он попросил меня прочитать что-нибудь, и я понял, что большинство моих текстов на тот момент никак не подходило для этого места и этой ситуации. Кроме одного. Рифмованного и наивного.
Я написал этот короткий текст в двадцать лет. Через семнадцать лет после вашей смерти. Он объективно слабый, в нём самая чудовищная рифма из всех возможных, а именно «ни о чём – незачем». Это был единственный раз в моей жизни, когда я пропустил подобную рифму. Более того, в первом варианте были «жилы» вместо вен, постоянная ошибка русской поэзии.
Но я по-прежнему ценю этот текст. Просто потому, что у меня тогда получилось прямо сказать о том, что я всегда чувствовал.
Это письмо основано на этом тексте и на том разговоре. Текст тоже назывался «Тень Отца». Естественно, это была во многом отсылка к Шекспиру, но главным значением названия была тень на диване, оставшаяся в моей памяти. Уже потом я буду читать Юнга и размышлять про значение образа «тень солнца». Тогда это был только перевод Пастернака фразы Ghost of Hamlet’s father, ещё не прочитанной мной в оригинале. Молчаливый призрак, который всегда со мной.
В полусумраке, где было потеряно ощущение дня и ночи. Я в первый раз вслух произнёс эти слова. Возможно, наивные. Но я и сейчас готов их повторить.
Ветром семнадцати прожитых лет
Вымело из памяти его лицо.
Я вспоминаю лишь силуэт
Того, кто когда-то был моим отцом.
Ещё знаю горсть его тихих стихов.
Потому не жалею ни о чём.
Ведь в венах моих течёт его кровь.
И большего требовать незачем…
P. S.
Сейчас уже почти утро. Декабрь, 24‑е число. Если считать Лиго 23‑м числом после солнцестояния, то вчера было Антилиго. Ровно тридцать лет с того дня, как вас перебросили через себя в спортзале. Принесли домой и оставили спать. Учитывая разницу во времени между Латвией и Англией, уже настало тридцать лет с момента моего первого воспоминания. Весь этот день и всю эту ночь я писал вам это письмо, переделывая черновик и дополняя его. Когда я закончу его, то вынесу на улицу и сожгу. Я взял с собой с вашей могилы ветку от туи и маленький камень. Когда я забирал их, то не знал ещё, что брошу их в этот огонь.
Я не собираюсь уничтожать текст полностью – у меня останется копия, для тех, кто не знает ещё о вашем существовании. Но мне нужно знать, что письмо превратилось в пепел вместе с деревом, в котором, возможно, осталась минимальная из возможных частиц вашего тела. Знаю, это мелкобуржуазный мистицизм. Но я обязан это сделать.
Я только надеюсь, что когда-нибудь, как-нибудь, я пойму тебя. Что я буду с тобой на ты.
Спокойной ночи.
24.12.2015
Приложение. Несколько стихотворений
Валдиса Крумгольда
Сын!
Сын!
Дай мне руку!
Пойдём искать радугу…
Мне её не найти
Без твоей помощи…
Ведь для меня небо
Щит, от космоса нас
Защищающий,
А для тебя
Голубой лист,
На котором
Твоё воображение
Сказки рисует…
Пойдём искать радугу,
А не спектр,
Пойдём искать радость
Которую ты сможешь спеть,
А я не смогу повторить…
Пойдём искать
Моё детство
У подножья твоей зари.
***
Я стою на скале.
У ног моих буря
Волны вздымает
И вертит.
Так и стою я
Выше моря,
Но ниже ветра.
5.01.85
***
Я смотрюсь в тебя,
Когда мне необходимо
Посмотреть на себя со стороны,
Ибо твои глаза – зеркало
Не только твоей души
***
Город мокрый.
Город блёклый.
На мелководье отраженья
Золотые рыбки зонтиков.
Я иду держа в руках
Нечто экзотическое
И завидую облаку
На него никогда не падает дождь.
***
Да я умру
Но эту неизбежность
Я не поставлю
С жизнью в ряд
Пока я жив
Я бессмертен
А после пусть
Другие говорят.
22.06.85
Возвращение
На возвращение нанизаны пейзажи,
И чуть горят они на стыках рельс,
А за окном сгорает заживо
В закатном зареве летящий лес.
Возвращаюсь я из долгого далёка,
Как будто в первый и последний раз,
Пылает лес, в прозрачность стёкол
Вплелась ветвей горящих вязь.
Лес догорает. Искры звёзд
Летят. Но нету в хаосе их – лишних.
И мой восторг так чист и прост:
Я возвращаюсь, я к себе всё ближе.
На возвращение нанизываю черноту,
И этот мир летящий – вечен…
Я сейчас переступлю черту
Меж возвращением и встречей.
***
Берёза осенняя, какая она счастливая
Ведь даже её седина
Цвета солнечного
***
Миллионы растерянных листьев
Оторванных от тверди
Лежат в грязи липкой
За что?
Как им ответить?
За что солнце
Всё ниже
За что ветры
Всё злее
За что они стали лишними на Земле?
Мы ищем ответа
А дожди и ветры
Просто пришли
в назначенный срок
И застыл в зелёных жилах
живительный сок
Скоро снега и морозы
А там и рукой подать до весны
Не стоит ставить вопросы
Там где ответы ясны
***
Тучи чинные старушки
Не спеша бредут по черепичным крышам
Я наблюдаю за ними
Из открытого окна кафе
И думаю…
Как прекрасен этот город!
Даже нудное ворчание
Этих чопорных дам
Не сможет испортить настроение
***
В белом до боли яблоня…
Но что гнетёт меня
В этом царстве белизны
Ощущения святости?
Или невечность весны?
Или белые цветы
Что так похожи на снега
Зима была суровой
И в ульях замерзали пчёлы…
***
Город затаил дыхание
До звона в ушах
Как новые мироздания
Снежинки шуршат
Контуры белого берега
Очерчивают фонари
Белое повторяет бережно
То что нельзя повторить
И улицы как дети
Улыбаются в полусне…
Так бело на белом
свете
Что кажется
теплым снег
***
И всё вдруг превратилось в лучи
Солнце, деревья, дома, люди
И всё сфокусировалось
В душе моей
И переплетение лучей
Я ощущаю гармонию…
Я ищу гармонию…
Зыбкие от ветра от машин
От моего движения
Лучи в душе обретают
Всё новую и новую форму
И я закрываю глаза
Я ловлю мгновения
***
Прощай!
До свидания и прости
В одном слове
Прощай меня
Сразу и навек
Прощай так
Как прощают ветер
Испортивший причёску
И до свидания
До встречи
Когда нибудь
***
Как из колодца
Сквозь солнце
Мы видим
Звёзды
Так из прошлого
Сквозь настоящее
Мы видим
Надежду
***
Переболею белым-белым
И уйду успокоенный в ночь,
Где звёзды звенят о берег,
А волны их гонят прочь,
Где память звенит о строки,
Где бьётся о прошлое новь,
Где небо в разрезах осоки
Лежит у моих ног.
***
Для бабочки
Живущей
Только лето
Наверное
Мы кажемся
Богами






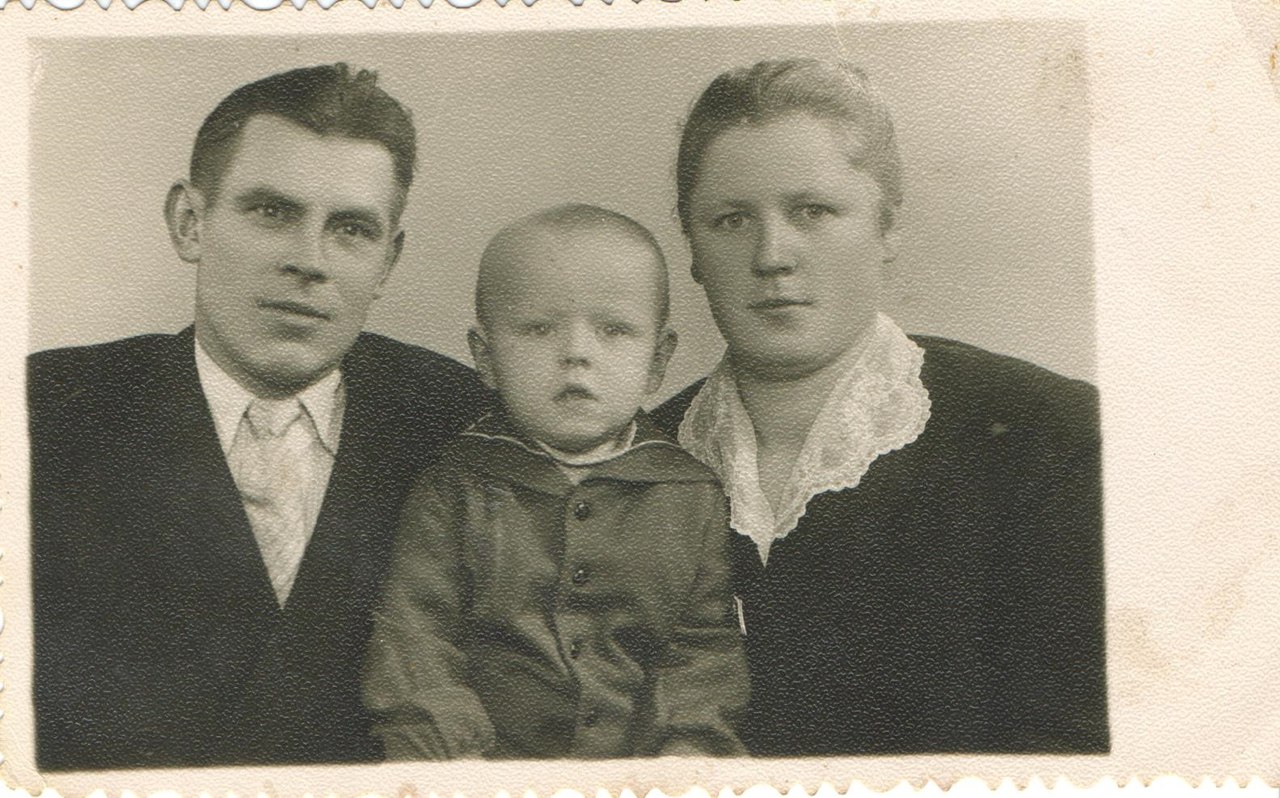
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: