Код Кочевника (перевод книги Эрика Дэвиса, восьмой сеанс)
Алхимия мусора
Духовный коллаж Западного Побережья
Вы, наверное, слышали эту историю про йога, который медитировал в горной пещере и понял однажды, что пробился через космическое яйцо духа. Достигнув таким образом просветления, он решил спуститься вниз в деревню и сеять вокруг себя любовь и всепрощение. Идет он, значит, по сельскому рынку, вокруг огромная толпа, и тут какой-то нищий его толкает. Мудрец тут же набросился на него с яростной руганью. Мораль этой истории в том, что легко соблюдать чистоту на горе в одиночестве, но гораздо труднее проявить внутренний свет в том хаосе, в котором живет большинство из нас. Но есть у этой истории и экодуховный аргумент, гласящий, что горы это то, где живет трансцендентность, а человеческие города – мир раскаленных страстей.
Искусство и духовность Калифорнии в двадцатом веке размывают эту границу между горами и городом, трансцендентным и имманентным, высоким и низким. В стихотворении “Time Is the Mercy of Eternity” поэт из Сан-Франциско Кеннет Рексрот – анархолевак, буддист и предтеча битников – описывает свой собственный мистический опыт в горах Съерра-Невады. То, что произошло, не приблизило его к Богу или космическим силам, он всего-то понял простоту и ценность обычной, материальной жизни: «Бледно-зеленый свежий листок / по ветру трепещет». То, что он увидел, это «сакральность реального», опыт, который он противопоставляет далекому городу, «пылающему огнями трансцендентности и удобств». В этом ключевом для понимания калифорнийской духовности инсайте Рексрот понял, что именно городской рынок, а не дзенская вершина горы, это зона, пылающая трансцендентными желаниями – или скорее, что желания, делающие товары ценными, есть в сущности желания трансценденции. Возникнув в сердце человеческого страдания и неудовлетворенности, сущностная энергия желания не отделена от священного, даже будучи направленной на мирские и грубые фантазии, двигающие городским образом жизни: похоть, развлечения и власть. Более того, сам рынок и его товарно-денежные фантазии рождают эту духовность. Подобная обратная связь особенно заметна в Калифорнии, где эзотерическая духовность долгое время была частью беспокойной и меркантильной поп-культуры, изобилующей разного рода мусором. Именно фантазия объединяет религиозный поиск и пеструю калифорнийскую культуру – фантазия не просто как иллюзия, но как смесь воображения и желания. Как могут подтвердить ироничные фэны, сила фантазии способна наделить бредовой, сновидческой притягательностью банальные образы летающих тарелок, сделав из них реальный культ, и коммерческих развлечений вроде фильмов категории B или комиксов.
Этот парадокс переносит нас в самое сердце сакрального Лос-Анджелеса, города, который грезит (и продает) себя через голливудскую мечту об идеальном человеке. Сама архитектура Лос-Анджелеса навевает этот материальный сон: в десятых и двадцатых годах город наводнили фантастические здания в стиле вавилонских зиккуратов, пирамид, коттеджей, замков, типи и ресторанов в форме котелка. Этот стремительный и часто безвкусный архитектурный набег на коллективное бессознательное предвосхитил Диснейленд, вывески фастфуда и корпоративную «тематичность» современного городского пространства. Экзотическое воображение, пробужденное этими не менее экзотическими постройками, в свою очередь подготовило почву для ориенталистских настроений и эзотерических концепций, приобретших на духовной сцене Лос-Анджелеса колоссальное значение. Иными словами, возведение этих построек из отходов человеческой архитектурной мысли создало духовное и психическое пространство для оторванных от мира сего представлений, которые начали расти со страшной силой.
Некоторые архитектурные фантазии уже начинали в то время бурлить на духовных окраинах Калифорнии. Самым известным из этих фантазеров был Роберт Стейси-Джадд, один из бесчисленных англичан, превративших Лос-Анджелес в «Лондон на Пасифике». В Англии Стэйси-Джадд проектировал здания в восточном стиле, но в Калифорнии открылась его настоящая любовь: майя. Ему принадлежит Aztec Hotel в Монровии, который остался его фирменным зданием; кроме того, он активно пользовался майянскими элементами в частных постройках, баптистской церкви в Вентуре и Масонском зале в долине Сан-Фернандо. Слегка чудаковатый, он позиционировал себя как исследователя – археолога культуры майя, а также водился с теософами и Обществом Философских Исследований Мэнли Холла. Беззастенчиво стащив несколько страниц из работ крипто-архелогов вроде Игнация Донелли и Льюиса Спенса, Стейси-Джадд писал в своей Atlantis: Mother of Empires, что майя произошли от атлантов. Предположительно, он верил, что региональный архитектурный стиль, основанный на майянском культурном наследии, позволит Западному Побережью напрямую черпать из этого мощного духовного источника, хотя трудно сказать, что история Aztec Hotel – борделя, где во времена Сухого Закона нелегально продавали спиртное – это доказывает.
В первые десятилетия двадцатого века жажда экзотики помогла Лос-Анджелесу стать лидером на парадоксально популярной калифорнийской духовной арене – том, что я называю оккультурой. «Ни в одном городе Соединенных Штатов вы не найдете такой концентрации метафизических шарлатанов на душу населения», писал Уиллард Хантингтон Смит, один из местных жителей, в 1913 году. Целые здания отводились духовным кружкам по интересам всех мастей: нео-зороастрийцам, йогическим сектам, домам истины, культам космических флюидов, астральным путешественникам, последователям движения Эммануэль, розенкрейцерам и прочим не от мира сего гражданам. Эти группы черпали из собственного творческого воображения и общего резервуара психо-духовных мотивов, создавая россыпь причудливых сект. Футуристические псевдо-научные теории смешивались с древними мифами теософских учений, астрологов и энциклопедистов вроде уже упоминавшегося Мэнли Холла, автора классического кирпича Тайные учения всех времен и счастливого обладателя крупнейшего мирового собрания алхимических и герметических текстов (лучшие из которых позднее приобрел Музей Гетти). Даже протестантский фундаментализм не избежал превращения в голливудский балаган с подачи евангелистки Эйми Сэмпл МакФерсон, которая носила костюмы, играла джаз и нанимала мастеров по спецэффектам для своих «иллюстрированных проповедей».
С этой активностью палаты для буйных Лос-Анджелес превратился во что-то типа тематического лунапарка для души, трансцендентный карнавал, предлагающий эзотерические источники развлечений и превращенного в товар чуда. Вполне понятно, почему многие взирали на этот спектакль не без глупой ухмылки, иногда смешанной с жалостью к бедным дурачкам, которых в это втянули. Над всей Калифорией тогда витала метафора Оз (Фрэнк Баум почти все книги об Оз написал, когда жил именно в Калифорнии) и деваться было некуда от хитрожопых торгашей в чародейских колпаках. Но легче всего было относиться к этому явлению с отстраненным цинизмом. Насмешки исходили обычно от людей посторонних, тех, которые считают религию одним из культурных изобретений. Но даже если это так, почему бы не расслабиться и не подивиться человеческому хитроумию? Считая религию по крайней мере отчасти порождением культуры, мы можем оценить, как в безродном месте вроде Лос-Анджелеса она захлестнула своим творческим порывом целое поколение, порождая новые, удивительные формы духовной культуры для еще более безродных душ. В подобном пластиковом, голливудском виде сакральный Лос-Анджелес очень напоминал Александрию или современную Индию. Самые разные времена и места смешивались, сливались воедино в непрестанном духовном поиске. Синкретизм процветал как никогда, эзотерические истины и практики миксовались, едва успев возникнуть. К моменту расцвета контркультуры потенциальным источником мистической духовности стало все, что угодно: серфинг и комиксы, садомазохизм и фармакология, электрогитары и военные разработки.
Впрочем, в этом мистическом карнавале крылась исподволь мучившая абсурдность, потому что в своих крайних формах беспокойное воображение становилось апокалиптичным, одержимым идеей духовного насилия, а в самых банальных – просто духовным супермаркетом, которым сейчас стал весь мир. Но даже в духовном супермаркете с суфийскими аудиокнигами, тибетскими безделушками и турами за аяуаской есть своя правда, которая состоит в том, что вселенная до мозга костей плюралистична и существуют тысячи путей к Богу. Мой путь это не твой путь и мой путь тоже, скорее всего, изменится, как и точка зрения и сама личность, которая этой точки зрения придерживается.
По контрасту с абсолютизмом духовного монотеизма творческая духовная жизнь покоится на относительности любых позиций. Это не значит, что она отрицает Иное, а только то, что она отвергает его завернутым в готовую упаковку. Каких бы истин мы не искали, такая жизнь требует от нас творчески взаимодействовать с разными формами духа, принимая разные взгляды на реальность, которая в конечном счете все равно останется тайной. Важно здесь также отказаться от простого бинарного противопоставления: сакральное и профанное, мусор и драгоценность, коммерция и осознанность. Духовную культуру такого рода гуру открытого софта Эрик Рэймонд назвал базаром, а не собором. В любом случае, к середине столетия калифорнийская оккультура была популярным рынком, где правила фрагментарность, эклектичность, экзотичность, изобретательность и совмещение. Но эта кричащая сцена преподала внимательному наблюдателю еще один, более тонкий урок: сознательное принятие относительности дарит нам творческую открытость и возможность видеть чудесное в вещах, казалось бы, совершенно обыденных.
Совмещенные образы
Калифорнийский рынок трансцендентных благ помог объяснить, почему лучшее послевоенное искусство этого региона было так тесно завязано на духовности. Я, пожалуй, обойду и без меня утоптанную территорию хипповского мистицизма, и займусь таким интересным явлением, как совмещение, в том его виде, в каком оно проявилось в коллажах, ассамбляжах и прочих подобных техниках. При всей своей кажущейся «народности» ассамбляж и коллаж демонстрируют исключительно современные художественные стратегии, отражающие культурный ландшафт, насыщенный знаками, товарами и урбанистическими обломками. Техника совмещения играла огромную роль в творчестве европейских сюрреалистов типа Эрнста и американца Джозефа Корнелла, но по разным причинам она также расцвела и на послевоенном Западе. Как замечает Питер Плагенс в книге Sunshine Muse, “ассамбляж [с его логикой совмещения] стал первым калифорнийским художественным течением». Похожие на собор Башни Уоттс Саймона Родиа, сделанные из осколков керамики, сетки для цыплят и прочих элементов культуры потребления, пророчески предвидели творчество многих послевоенных художников – Джесса Колинза, Брюса Коннера, Ларри Джордана, Джорджа Хермса, Уолласа Бермана и Хелен Адам – которые тоже совмещали и комбинировали образы, стили и материалы.
Если бы нас попросили назвать гуру бриколажа Западного Побережья, им бы, несомненно, стал Уоллас Берман, тихий, но при этом чертовски влиятельный мастер, сама жизнь которого была лучшим образцом коллажа из сакральности и повседневности. Хотя ему принадлежит несколько важных работ, сделанных с помощью старого фотокопира Verifax, Берман был в большей степени заботливым садовником, помогая прорасти впоследствии крупным талантам. Он был распространителем, и именно эту ипостась уловил его друг Деннис Хоппер, пригласив его на камео в Беспечный ездок, где он играет сеятеля.
Рос Берман как светский еврей в Ферфаксе и Бойл-Хайтс в Лос-Анджелесе. Повсюду его окружали буквы иврита – от газет до вывески мясника – и позднее этот алфавит стал его фирменным знаком, в особенности буква алеф, которую он поместил на свой мотоциклетный шлем. В 1950‑х, используя родной алфавит, Берман создал поддельные Свитки Мертвого Моря, а буквы поместил в ассамбляж; потом он рисовал их даже на скалах. В реальные слова эти буквы никогда не складывались и всегда оставались конвенционально бессмысленными; одновременно декорациями и иероглифами, слишком сложными для здравого смысла. Если хотите, можете считать это каббалистической шуткой, хотя сам Берман особо на этот счет не распространялся. Во время одной из первых выставок его фальшивых пергаментов Берман сказал актеру Дину Стокуэллу, что все они замешаны на каббале; в разговоре же с поэтом Филипом Ламантиа, который, в отличие от Стокуэлла, кое-что понимал в еврейской мистике, он отверг всякую с ней связь.
В каббале язык не воспринимается как человеческий фильтр, который мы накладываем на некую изначальную реальность; в каббале язык и есть сама реальность. Есть множество точек зрения на эту оригинальную Тору и лишь некоторые напоминают лингвистические ассамбляжи Бермана. Один рабби из Сирии в восемнадцатом веке как-то сказал, что до творения Тора была «кучей разрозненных изначальных букв». В ответ на поступок Адама этот первозданный алфавит сложился в слова, которые и делают мир таким, каким мы его сейчас видим. Но необязательно все так и должно быть; некоторые каббалисты считают, что мессия явится после того, как мы «переименуем» реальность, поэтому «бессмысленные» комбинации Бермана это в каком-то смысле сакральные «нарезки». Хотя он игнорировал гадательный и синхронистичный потенциал метода «нарезок», так привлекавшего Гайсина и Берроуза, Берман определенно знал о искупительном потенциале герметической бессмыслицы. Его буквы это веселая, но при этом глубокая мистерия – попытка воззвать к творческой полноте языка, словно на джазовом концерте 1940‑х, куда он ходил в модных тогда широченных брюках.
Дэвид Мелтцер, поэт-битник и по совместительству каббалист с Западного Побережья, понимает мистицизм Бермана менее буквально. Он объясняет, что его друг «прекрасно знал о невыразимом порыве сакрализовать и восстановить лежащий в послевоенных руинах мир». Он сравнивает эту операцию с тиккун, понятием из лурианской каббалы, согласно которому человек должен соединить вместе разбросанные частицы творения. В случае с мистиками и творцами двадцатого века эта благородная цель не всегда приводила к подобному же великому искусству. Также Мелтцер сравнивает тиккун с хипстерской привычкой «копаться» в чем-то, которую он характеризует как «взять самый банальный, самый презренный, самый обыденный предмет и вернуть ему его изначальную славу». Мелтцер с любовной детальностью описывает всякие забавные безделушки, найденные дома у Бермана; многие из нас знакомы с такими «богемными» жилищами, чья бедность искупается удивительными, бережно сохраненными в них вещами. Когда срок жизни этих вещей как продуктов потребления завершается, для них наступает новая жизнь в качестве объектов искусства, как сакральных объектов. Мелтцер говорит, что «это что-то вроде анти ‑материализма или контр-материализма, когда художник открывает грани новой красоты в невзрачном камне или потерявшем ценность объекте массового потребления, найденном в канаве, подобно тому, как это происходит с Орфеем Кокто или Вивальди».
В 50‑х Берман создал всего несколько ассамбляжей и большинство из них это скульптуры или инсталляции. Неважно, как бы вы их классифицировали, потому что самое значимое его медиа-шоу состоялось в Ferus Gallery в 1957 году, где религиозная озабоченность мастера ощутима невооруженным глазом. Храм, например, напоминает большую деревянную караульную будку или исповедальню. Внутри нее стоит фигура, облаченная в мантию. с ее шеи свисает ключ, голова повернута прочь от зрителя. Пол под фигурой усеян страницами Semina, коллажного «журнала», со стихами и рисунками друзей и всяких культовых фигур сцены, который Берман бесплатно рассылал кругу своих соотечественников в начале 1970‑х. Выходивший в разных формах, Semina, в сущности, был папкой с листками, и от читателя требовалось их собрать как карты Таро. Майкл МакКлюр, дебютировавший с “Peyote Poem” в третьем выпуске журнала, назвал его «альбомом духа».
Панель была инсталляцией посложнее: таинственный деревянный шкаф с фотографиями жены Бермана, потайными отделениями, зеркалами, письмами и длинным рядом поплавков, плывущих в лучах направленных на них прожекторов. Во всем этом была тихая тайна. Крест, собственно, и был тонким деревянным крестом, с левой перекладины которого свисал маленький затененный экран с похожей на мандалу фотографией члена во влагалище, а снизу приписано factum fidei, подлинные факты. Как пишет Ребекка Солнит, в гипермодернистском искусстве Америке середины 50‑х такие иератические объекты – указывающие на «что-то за пределами себя и берущие свой смысл из-за этих пределов» – нехило так попахивали богохульством.
Местная полиция тоже сочла их богохульными. Когда ее вызвали в галерею из-за вышеописанной фотографии, по иронии судьбы они, не обратив на невинный биологический акт никакого внимания, закрыли Бермана за набросок, увиденный на одном из рассыпанных по полу листков Semina: живописный, в стиле Фрэнка Фразетты, демон овладевает сзади красивой женщиной. Работа принадлежала Марджори Кэмерон, самому прямому контакту Бермана с оккультным подпольем Лос-Анджелеса и женщиной, чья история еще будет рассказана. Рыжая художница и оккультист была замужем за Джеком Парсонсом, физиком, работавшим над жидким ракетным топливом и одновременно магом, который создал в Пасадене ложу OTO Agape и, похоже. относился к сексуальной магии серьезнее самого Кроули. Во время завершающего эпизода Работы Бабалон она служила музой Парсонса, который в 1952 году погиб от трагической случайности у себя в гараже, когда пролил взрывоопасное вещество. После его смерти Марджори стала главной ведьмой Лос-Анджелеса, изготавливала талисманы, писала магические картины, превзойдя Анаис Нин в фильме Кеннета Энгера Торжественное Открытие Храма Наслаждений и пугала периодически самого Денниса Хоппера.
Она, кроме того, наделила творчество Бермана магической силой (которая, как и предполагается в фильме Энгера, состоит из точной психической настройки). Джордж Хермс, чьи ассамбляжи опережали скромный вклад Бермана и по формальной эффектности и таинственной внутренней силе, говорил, что «Кэмерон сделала меня тем, кто я есть».
Инсталляция Бермана в Ferus была чертовски герметическим мероприятием; у вас постоянно возникало чувство, что вы должны были оказаться здесь, может быть, даже стать частью сцены, чтобы вникнуть в суть. Но в начале 60‑х Берман начал работать над своими, пожалуй, наиболее понятными и доступными ассамбляжами – серией коллажей, направленных напрямую на коллективный разум. С помощью древнего фотокопира Verifax, который работал с негативами и специально обработанной бумагой, Берман создал серию шедевров, которые транслировали поток образов рекламы и информации, составлявших медийное пространство 60‑х. Каждый образ несколько раз дублировался на общей площадке: корпусе небольшого транзисторного радио. Внутри этой «рамки» Берман разместил огромное количество разных картинок, включая магические грибы, гепардов, астронавтов, герметические символы, голых баб, листья марихуаны, будд, аэропланов, индейских вождей, священников, звезд, в том числе звезд кино, часы и куклы. Сначала он приспособил для рамки телевизор, но транзистор хитрым образом совместил образ и речь в глубокую алхимию, которую Кристофер Найт назвал визуальным песнопением. Полученные коллажи предполагают, что глобальный разум с его водоворотом образов имеет магическую близость, которую Маклюэн окрестил акустическим пространством.
Верифаксовые коллажи Бермана не особо повлияли на арт-тусовку того времени, зато заработали ему место в галерее местных сумасбродов, которую Питер Блэйк в полном составе поместил на обложку Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера. Повторяющаяся фигура Бермана и соответствующие его образы также предвосхищают дальнейшую одержимость поп-арта механическим повторением и объектами потребления. Но, как и в случае с другими калифорнийскими художниками, связь Бермана с уличным искусством несет в себе большую эзотерическую глубину и хрупкое ощущение тоски, чем безличные фигуры Уорхола, Лихтенштейна или Раушенберга. Частично это можно объяснить окружением; Нью-Йорк был частью светского мира медиа, в то время как сильная калифорнийская медиа-культура, даже доминируя в культурной индустрии, всегда источала атмосферу трансцендентной фантастики, часто довольно пошлой. Но куда важнее тот живой контекст, в котором работали Берман и его друзья: жизнь, аутентично укорененная в некоммерческих границах богемы, магический круг искусства, дружбы и эзотерического романтизма, трансформирующий все, к чему прикасается.
Translations
Берман, разумеется, не был единственным алхимиком коллажа на Западном Побережье. Крестным отцом калифорнийского коллажа был Джесс Коллинз или просто Джесс. Бросив карьеру в ядерной химии в конце 40‑х, Джесс занялся абстрактной живописью в Калифорнийской Школе Изящных Искусств, пока не посвятил себя полностью работе над так называемыми Paste-Ups из всякого повседневного хлама. Работа 1954 года Goddess Because Is Is Falling Asleep – (часть пропущена) окруженный текстом “Of Nature and Art and a Puppy Pilgrimage” – было чем-то средним между Максом Эрнстом и Терри Гиллиамом. Тогда же Джесс создал несколько комиксовых коллажей, названных Tricky Cad; вставляя странный текст в диалоговые пузыри и пародируя авторитарный уклон главного героя, которого любил в детстве, Джесс предвосхитил не только ситуационистский detournement, но и послевоенную стратегию смешения высокого и низкого искусства.
В 60‑е ранние сатирические и фрагментарные работы Джесса эволюционировали в фантастические ландшафты, собранные из сотен, как в паззле, фрагментов. Плотные и текучие, архитектурно рельефные (чего так недостает многим подобным коллажам в дальнейшем), эти миры изобиловали визуальными каламбурами, забавными соответствиями и сияющими обитателями архетипических миров. Даже в репродукциях, на которых эти коллажи кажутся плоскими и назойливыми, они все равно излучают поистине галлюциногенную убедительность. Множество из них, включая незаконченную колоду Таро, напрямую работают с эзотерической тематикой; другие исследуют герметический гомоэротизм, достигающий предела в позднем шедевре Джесса, Narkissos. На фоне засилья хипповского мистицизма (который я прежде обещал обойти стороной) эти эзотерические субъекты выглядели банальными, но в конце 1950‑х подобное искусство еще не сошло окончательно с пути мистического китча. Джесс творил свою мистерию с романтическим настроем, одновременно современным и анти ‑современным. С одной стороны, он был художником присваивающего типа, используя возможности, возникающие, когда иерархии художественного мира переворачиваются вверх тормашками, и из мимолетных поверхностей современной жизни возникают фрагменты, которые он творческим чутьем соединяет вместе. В то же время эти возможности предполагают, что пыльная романтическая ересь магии никуда не исчезла: сталкиваясь с ворохом резонансных, слитых вместе образов, наш разум неизбежно вовлекается в игру аналогий и соответствий. Соединяя фрагменты в таинственную. охватывающую все взаимосвязь, логика этих сочетаний становится зыбко-сновидческой, в чем-то даже эротической. Подобный бессознательный монтаж, который влечет за собой погружение в магическую вселенную, был прекрасно известен сюрреалистам, но с помощью подходящих материалов Джесс подходит еще ближе к прямому магическому воздействию на обыденный мир.
При всей своей погружающей способности многие коллажи Джесса омрачены поверхностностью, свойственной плотным и красочным многослойным коллажам, и они во многом лишены чистоты и мощи его серии Translations. Эта серия живописных работ, которую он начал в 1959, основана напрямую на образах, которые Джесс почерпнул из ежегодников, книг по алхимии, вкладышей из жвачек или покрытых плесенью стопок Scientific American. Строго придерживаясь оригинальных контуров (но не цветов), Translations напоминают уорхоловскую живопись по номерам. Хотя они были окрашены тем же терпким чувством запоздалой иронии, Translations больше похожи на внутренний театр творческой памяти, который перерабатывает – или переводит – случайные, но важные образы мира во внутреннюю фантасмагорию. Когда Джесс воспроизвел Translations в виде книг, он сопроводил их текстами из самых разных источников: Плотина, Пополь-Вух, а также протопсиходелической фантазии Джона Ури Ллойда Etidorpha. Частенько эти пары соединяли современное и мифическое: например, шлифовальный станок девятнадцатого века вместе со сценой из кельтских мифов, где герой Фион мак Камхол вопрошает друида Финнегаса об искусстве поэзии. Эти пары углубляют вопрос, а что же, собственно, переводится: образы, миры или неуловимый дух, стоящий за всеми этими маркерами и аналогиями? Что соединяет эти образы, когда они в конечном счете, при всем намерении художника, все равно остаются фрагментарными?
Как и Paste-Ups и его поздние Salvages (холсты из комиссионных, переработанные в мольберты), работы Джесса зависят от его собственного резонанса с образами. «Я спасаю то, что мне нравится, то, что по какой-то причине было выброшено, и я нахожу это. Периодически я подбираю на улице потрясающие вещи. Если вы подобрали что-то, вы действительно спасли эту вещь». Это и есть алхимия мусора. Отдавая дань своим предшественникам (Translations цитируют Кандинского, Гертруду Стайн и на горизонте маячат сюрреалисты), Джесс также снимает шляпу перед популярным и фольклорным измерением искусства присвоения – утверждения домодерновых истоков, которые отделяют Западное Побережье от Нью-Йорка и Европы. Обсуждая тех, кто на него повлиял, Джесс помещает Playland-by-the-Beach в Сан-Франциско и иллюстрации Джона Нила к Оз вместе с Эрнстом и Гауди. Сегодня такой тип популизма стал более утомительным и настойчивым («Маргарет Кин и Эсквель гении!»); в 50‑х, еще до самоиронии поп-арта, все это было скандальным, визионерским, романтическим, и что более важно, растущим из повседневности. Джесс, который вырос в Лос-Анджелесе, часто рассказывает, как посещал вместе с отцом старые шахтерские городки в пустыне Мохаве. Мифический старатель Старый Сордо был еще жив, и Джесс помнит небрежный коллаж из календарей, постеров и рекламы, украшавший одну из его ветхих лачуг: «маленький дворец с коллажами из кусков дерева, алюминия, битого стекла, жестянок, почти всего, что вы можете вообразить».
Джесс не был бродягой из канавы, и его самые глубокие мифопоэтические работы держат высокий тон лирической и философской интенсивности. Narkissos это огромный коллаж, собранный из сделанных Джессом набросков, а также всего, что он собирал десятилетиями. Основанный на скетче, впервые сделанном в 1959, Narkissos в высоту составляет больше шести футов, и занял у Джесса более двадцати лет напряженной работы. Это настоящий шедевр, возможно, величайший коллаж в Америке, и по моему мнению, вершина пластиковой духовности Калифорнии. Это темный, но забавный палимпсест из сказок, гомоэротики, гностических мифов, зал иероглифических зеркал, отражающих миф о Нарциссе, пока сами отражения – и порождающие их желания – таят в небесах. Narkissos буквально сочится аллюзиями, скрытыми шутками, каламбурами и эхо (включая мифическую Эхо). Фигура Пана, например, это собирательный образ панамского флейтиста. Подобные же, хотя и менее очевидные, подводные камни ждут тех, кто будет созерцать женщину на трицикле, спорынью, лежащую у бассейна, фигуру самого Эроса, которую Джесс скопировал с греческой бронзовой статуи, кусочек из The Young Physique, и психоделические рисунки пост-импрессиониста Чарльза Филигера.
За всем этим архетипическим пинг-понгом лежит реальная, мистическая, неуловимая, многоуровневая апелляция к романтическому воображению, основаннная на глубоком знакомстве Джесса с герметическими, неоплатоническими и романтическими трансформациями классического мифа Овидия о Нарциссе. Разумеется, Джесс не преподносит вам весь смысл на тарелочке, и не только потому, что хочет, чтобы вы проделали свою собственную концептуальную и духовную работу по вскрытию смысла. Романтическая идея Джесса состоит в том, что смысл этот бесконечен, но не в деконструктивистском стиле, а в духе лабиринта. Но даже, когда эзотерическое прочтение Джесса резонирует с платоновским мифом о пещере как бесконечной генерацией мифов и желаний, эхо его можно услышать в крикливом шуме коммерческой культуры. Метрополис и лягушка Мориса Сендака, оба находят здесь свое место, а фигура Нарцисса, кроме остального, содержит кусок панели комикса Krazy Kat (чей создатель, бесподобный Джордж Херриман, жил и работал в Лос-Анджелесе). Мифическое время всегда готово ворваться в современность или в личную мифологию отдельного творца контркультуры. Другими словами, если романтизм Джесса имеет какой-то смысл, тогда те силы, к которым он взывает, выше отдельного художника: те уровни фантазии, которые возникают, когда мы работаем в этой герметической мультипликации, не остановятся там, где, как он сказал однажды, «мое воображение иссякает».
Как и в случае с Берманом, Джесс соединил свою работу со своей жизнью. А эта жизнь в свою очередь переплелась с жизнью поэта Роберта Данкена, которого он впервые встретил в 1951 году. Уроженец Bay Area, чей поэтический голос окреп в 50‑е и 60‑е, Данкен всегда оставался неудовлетворенным тем, что, невзирая на самую интригующе духовную поэзию послевоенной Америки, он не был битником. В поэтическом смысле Данкен был наследником Малларме, а не Уитмена или Уильяма Карлоса Уильямса, и хотя разделял романтизм Гинзберга или Снайдера, его вкус был более анахроничным. Популизм, крикливость и нахальство многих поэтов-битников, которые отчасти ответственны за дикость поэзии 1990‑х, были чужды Данкену, глубоко погруженному в герметизм, мифологию и гностические тексты. Как и Йейтс, он был многим обязан высокому эзотерическому романтизму, но пропущенному при этом через послевоенный фильтр фрейдистского самосознания, социальной отчужденности и острого понимания жестких противоречий между эросом и ртутной текучестью психики.
Рискованная высота
Принято объяснять хипповское увлечение наркотиками, дзен и мистикой как простое богемное сопротивление мещанским ценностям и соответствующему воспитанию. Это достаточно точное понимание, которое стремится свести трасцендентность к бунту, а духовность к «культуре», не работает в случае Данкена, чьи приемные родители были оккультистами – членами маленького герметического кружка, отколовшегося от Герметического Братства Луксора. Данкена взяли в семью, тщательно изучив его натальную карту, которая гласила, что в своем последнем воплощении он застал последние дни Атлантиды. В детстве он видел повторяющийся апокалиптический сон, который, как он считал, был воспоминанием об Атлантиде. Позднее этот сон сформировал психическое зерно одной из самых известных поэм Данкена Часто мне дозволено вновь на луг вернуться.
Пронеся через всю жизнь преданность романтическому воображению, Данкен никогда не был ни искренне верующим, ни публичным мистиком типа Гинзберга или Снайдера. И хотя этот интерес к эзотерике был преимущественно эстетическим – чувствуется, что Гермеса Трисмегиста он любит также, как Тик Ток из Оз – он понимает, что эзотерика тоже была и есть, в сущности, духовный ассамбляж. Синкретизм рулит. Данкен был очарован теософскими текстами мадам Блаватской, ее Разоблаченной Исидой и Тайной Доктриной – многословным зельем из астрологии, алхимии, нумерологии, нео-платонизма, буддизма, каббалы и ведических систем. Данкен называл их «мусорными кучами, где вопреки диктату рацио, как и в искусстве коллажа, из того, что было сочтено ничтожным, смешиваются жанры и образы… чтобы создать нечто новое». Не особенно доверяя мистическим откровениям Блаватской, он все же придерживался основной линии ее работ. Как он писал в чудесной и к сожалению неизданной книге H.D. Book «пока человек не будет жить в этом священном трепете, в повиновении неведомым силам, пока он не посмотрит новым взглядом на то, что когда-то отбросил, он никогда не поймет, что это значит».
Данкен пытался жить и писать в этом «священном трепете», в подчинении трансперсональным силам, которые окружают и отчасти формируют наше «я». Не стремясь «выразить себя» подобно многим поэтам – битникам, Данкен занимает пассивную позицию, раскрывая душу влияниям, исходящим из литературы, сновидений, живописи, газет, богов и самой спонтанности языка. Поэзия была тем «полем», где эти силы могли встретиться, соединиться и взаимодействовать; как поэту ему было интересно наблюдать за тем, что получится в итоге. Разумеется, во всем этом была и толика предвидения. Данкен особенно не правил свою поэзию и его потрясающие “Medieval Scenes” были созданы в сюрреалистском ключе, развитым позже другом и соперником Данкена Джеком Спайсером.
На более глубоком уровне это поле действительно было обрамлением духовного коллажа. Связь Данкена с силами души проявлялась в том, что он, находя определенные образы, находил в них себя. Данкен считал, что его творчество было частью «грандиозного эстетического коллажа», и это отразилось не только в обилии цитат в его стихах, но также в почти борхесовской атмосфере аллюзий, отсылок и библиомании. Его серия поэм Пассажи цитирует императора Юлиана и Эзру Паунда, упоминая по ходу дела книги вроде Авроры Бёме, Тайной книги египетских гностиков и Принцессы и гоблина. Apprehensions, возможно, его самая навязчивая и конвульсивная работа, сплетает цитаты из Марсилио Фичино и Джордано Бруно в стихотворения, при чтении которых возникает ощущение, словно вас щекочет мягкой лапой быстро тающее при дневном свете откровение из дальних уголков сна.
Цитаты и аллюзии Данкена, конечно, трудно сравнить с найденными на обочине дороги вкладышами от жвачки, но, несомненно, его поэзия является частью калифорнийской алхимии мусора – навозных куч оккультуры, набитых барахлом, ожидающем своей очереди на трансформацию. В написанном в 1959 “Nel Mezzo Del Cammin Di Nostra Vita,”Данкен отражает этот алхимический порыв, превознося Башни Уоттс, возведенные итальянским плиточником-любителем Саймоном Родиа
созданные
мусором городским и судами на вечной мели,
выше шпиль вознеся, чем собор католический
и им вдохновляясь; собранные из частичек прекрасного
в течение тридцати с лишним лет,
величественные,
митре подобные, ввысь вознеслись они
над убогим предместьем,
где разум измучен вечным потоком машин,
низведен до аптек и стандартных госслужб,
рассекающих на деловые кварталы
побежденное тело фантазии.
Ничего шокирующего: богемные ценности старого доброго двадцатого века. Данкен прославляет художника-аутсайдера, который пошел против шерсти, против догмы, не стремясь никому понравиться. Все это часть современного альтернативного мифа, но она останется там, где существуют границы – культурные, экономические, духовные – позволяющие расцвести маргинальному искусству. Революционное когда-то, совмещение стало частью искусства рекламы. Мусор сегодня уже не тот, в нашем везде опоздавшем мире здравого смысла, посредственного и осторожного бунта, и всеобщей мании собирательства, где все давно уже выставили на eBay. Многие из нас еще слышат духовный зов отброшенных обществом потребления «частичек прекрасного», которые мы все равно будем видеть, даже если встанем в стройные ряды тех, кто, по выражению Гинзберга, «спит и образами соединяет зазоры в пространстве и времени…».
2005
Призраки Джека Спайсера
Летом 1965 года поэт Робин Блейзер обнаружил своего друга Джека Спайсера лежащим в коме в палате для малообеспеченных в госпитале San Francisco General. Сорокалетний Спайсер был найден пьяным в лифте своего дома в North-Beach за пару дней до этого, и так как при нем не было паспорта, то он оказался в самой дерьмовой палате. Когда врач предположил, что Спайсер банальный алкаш, Блейзер взял его за грудки: «Ты говоришь о величайшем поэте!». Это было правдой, и тогда и сейчас. Но в тот момент Спайсер был прежде всего поэтом умирающим. После нескольких дней бреда и лихорадки он выдавил из себя последнюю связную фразу «Мой словарь сделал это со мной», после чего больше в себя не приходил.
Эти последние слова стали самым точным заглавием для выпущенного Питером Джиззи и Кевином Киллианом в 2008 году полного собрания стихотворений Спайсера, выходивших с 70- годов. Сама фраза могла бы стать строчкой одной из его поэм зрелого периода, прозаичной и безрадостно-забавной, как уклонение от неубедительного удара на словесном турнире. Похожий голос звучит в одной из самых известных поэм Спайсера, обращения к океану, которое венчает последний эпизод “Thing Language”:
Бесцельно
Она набегает на берег. Сигналы белы и бессмысленны. Ни
Кто не слышит поэзию.
Спайсер писал, сидя на этом же берегу, месте, столь же географическом, сколь и мифическом. Родился он в Лос-Анджелесе и был абсолютным патриотом Калифорнии, гордым завсегдатаем Беркли и North Beach, который ненавидел Нью-Йорк и обожал, обожал, обожал San Francisco Giants. С Блейзером и Данкеном, двумя поэтами-геями, с которыми он познакомился в Беркли в конце 40‑х, Спайсер помог расцвести одному из самых ярких сообществ на пестром полотне калифорнийского Ренессанса. В местных барах и горячо любимом им Aquatic Park Спайсер активно (и довольно капризно) формировал круг поэтов, художников и писателей типа Джека Гилберта и Ричарда Браутигана, который посвятил ему Trout Fishing in America. Спайсер был патриотом настолько, что запретил публиковать свои тексты дальше Bay Area, как если бы поэзия была чем-то вроде сельского хозяйства. (Он, кроме того, пророчески отказался от авторских прав). Но хотя он был одним из основателей «Шестой» Галереи, где частенько выступал Аллен Гинзберг, битником Спайсер не был – ему не нравилась трава, дзен он считал бессмысленной чушью, и открыто потешался над стихами Лоуренса Ферлингетти.
В молодости Спайсер провозгласил, что хочет написать поэму, «длинную как Калифорния», но штат, который он собирался облечь в стихи, был, видимо, чем-то большим, чем родина холмов и лягушек, или даже «Побережьем Богемии». География Калифорнии порождала такую же пограничную поэтику, которую Робинсон Джефферс, задумчивый мизантроп, прославивший в своих стихах знаменитый городок Кармел, и которому Спайсер был многим обязан – назвал «экстремальной обочиной».
Спайсер вдоль и поперек изучил эту обочину. Хотя его ранние стихи хорошо написаны и часто обезоруживающе прекрасны, зрелое его творчество, где сталкиваются абсурд и смысл, очень неровно, в нем преобладают каламбуры и нервные стычки романтики и откровенности, машин и голосов мертвых. “Fifteen False Propositions Against God”, написанная в 1958 году, содержит замечательный пример непринужденной игры Спайсера с перекрестными образами:
Красота так редка-
Спой новую песню
Настоящая
Музыка
Заливший румянец. Боль у бровей.
Визитка.
Такая поэзия требует от слушателя исключительной чуткости, и Спайсер – который всегда отклонял стихи, с ходу понятные слушателю, как «блядские» – был определенно крепким орешком. В основном эта трудность в восприятии его текстов связана с их поэтикой. В отличие от битников, Спайсер не верил, что поэзия должна выражать чаяния вдохновленного эго автора. Вместо этого он низводил труд поэта до почти механического акта вслушивания в то, что Спайсер называл Иным – почти лавкрафтианскую бездну сил, которые вторгаются, а не вдохновляют, и перед которыми поэт немногим больше, чем пишущий под диктовку секретарь. В серии лекций, которые он прочел в Ванкувере незадолго до смерти, Спайсер объясняет, что в задачу поэта входит избавить конечное произведение от всех следов личного присутствия – любимых сюжетов, элементов биографии – и уступить место тому, что он полушутливо называл «вторжением марсиан». Содержимое разума поэта, его воспоминания, личная история и язык, это лишь «обстановка», которой Иное оформляет стихотворение, процесс, который Спайсер сравнивал с тем, как под влиянием марсианского внушения ребенок складывает фразы из алфавитных кубиков.
Идея Спейсера о поэтической диктовке, не говоря уже о словесных загадках, которые она порождает, многим обязана формальной тренировке поэта и немногочисленным исследованиям в лингвистике до того. как в нее пришел Хомски. В то же время из ванкуверских лекций стало ясно: Спайсер считал поэзию эффективной духовной практикой, требующей аскетического уничтожения личности и практического вовлечения в традицию духовной поэтики. Свою первую лекцию Спайсер начал с описания духов, которые, кроме Видения Йейтса, «внесли в его поэзию метафоры». Очень убедительно Спайсер помещает Йейтса и его жену Джорджи Хайд-Лиз в поезд от Сан-Бернардино до Лос-Анджелеса, когда она впервые устанавливает контакт с духами через автоматическое письмо. Спайсер, скорее всего, лжет – по крайней мере, доказательств для таких заявлений у него нет – но его желание встроить традицию Западного Побережья в пророческую эстетику вполне понятно.
Собственная инициация Спайсера в оккультную поэтику произошла, когда он в 1946 году встретил в Беркли Данкена, и именно этот год он считает днем своего подлинного рождения. Урожденный калифорниец, чьи приемные родители принадлежали к Теософскому обществу, Данкен, который к тому же был старше, посвятил Спайсера в тонкий, магический подход к поэзии – буквальный и глубоко эстетический герметизм, отбрасывающий гламурные тени на гомосексуальный полусвет, окружавший в то время Данкена и шокировавший неловкого Спайсера. Вместе с Блейзером и другими поэтами молодые люди экспериментировали со словесными играми, практикой духовной диктовки (чем-то вроде автоматического письма) и библиомантией, начав развивать свой вид эзотерической поэтики, на которую позднее нападал Чарльз Олсон в своем эссе «Против мудрости как таковой», назвав его “école des Sages ou Mages as ominous as Ojai.” Но хотя позже Спайсер вел даже мастер-класс в San Francisco State под названием «Поэзия как магия», он никогда не смог воплотить магию так, как это сделал Данкен. Любитель лингвистических парадоксов, Спайсер довольствовался оккультизмом как очередной игрой в прятки знаков со смыслами. Гораздо серьезнее он относился к практике духовной диктовки, которая позволяла убрать то, что он называл «большой ложью эго». В ванкуверских лекциях Спайсер рассказывает, как он мучительно, час за часом, очищал свой разум, чтобы позволить проявиться Иному.
Чего в призрачной поэтике Спайсера больше – последнего вздоха романтизма или последнего оплота постмодерна – в его повороте к «униженным» и материальности языка? Для его поэзии вообще характерны такие колебания, они же, кстати, и придают ей актуальность и силу. С одной стороны, муза Традиции была похищена одним из инопланетных вирусов Берроуза, чьи послания, по мнению Спайсера, совсем необязательно мудры, красивы или в чем-то правы. Но за этой научно-фантастикой рамкой – а Спайсеру нравились Удивительные истории и беллетристы вроде Альфреда Бестера – скрываются более традиционные позы, которые заставляют поэта обратить чуткое ухо к океану неведомого, и передать этот белый шум и призрачные сигналы средствами нашего неповоротливого языка. Один из любимых образов Спайсера, описывающих этот процесс – автомобильное радио в Орфее Кокто, передающее строчки уже ушедшего поэта – строчки, которые настойчиво повторяет прекрасный Орфей.
Цепь подобной же паразитической потусторонней навязчивости также служит рамкой для настоящего шедевра Спайсера, вышедшего в 1957 году – After Lorka, сборника подразумеваемых переводов испанского поэта. Книга открывается предисловием якобы самого Федерика Гарсиа, который жалуется, что Спайсер слишком вольно обошелся с его стихами и некоторые теперь вообще не его. Эти выдуманные переводы не только демонстрируют оригинальность подхода Спайсера, но также делают стихи своего рода машиной времени или тем, что он в другом месте назвал «машиной для ловли духов». Большинство из этих духов, как правило, были известными поэтами, «терпеливо рассказывающими одну и ту же историю и пишущими одну и ту же поэму». Впрочем, один из этих, попавших в сети Спайсера, призраков, намекает зрителю, что это не кто иной, как он сам – ты и голос, который ты слышишь в своей голове, диктующий поэму наподобие Альбы:
Если рука твоя была бесцельна
Ни один лист
Не пробьется из лона земли
Легко писать, легко целовать-
Нет. говорю я, прочти то, что ты написал.
Будь здесь.
Как земля
Когда падает тень на влажные травы
After Lorca стала первой поэмой Спайсера с продолжением, эту форму они делили вместе с Данкеном. Отказавшись от своих ранних, отдельно стоящих произведений как от «романов на одну ночь», Спайсер почти все свои зрелые поэмы писал с продолжениями. И хотя он продолжил изредка создавать для публикации какие-то отдельные вещи, его серийные поэмы выходили отдельно в виде небольших книжек. The Holy Grail (1962), куда входят семь «книг» с семью безымянными поэмами, пожалуй, самая сбалансированная и гармоничная из подобных работ, хотя она не лишена привычного для Спайсера столкновения голосов и образов, создающих, по его словам, «неуютное звучание». Незавершенность, растянутость поэм Спайсера также заставляют нас взглянуть на мой словарь как на серийную «книгу Джека». И хотя трудно сказать, составляют ли фрагментарные произведения Спайсера единое целое, здесь, за фасадом повторяющихся образов и метафор, которые требуют от читателя изрядной внимательности к жизни самого Спайсера (например, образы лимонов и веревок), есть важное условие для этой работы – даже если это условие не более чем «обычная нора, ведущая от одной вещи к другой».
Любые попытки придать этой норе целостности идут вразрез с разнородностью самих текстов Спайсера – не только поэм, но и фрагментов, прозы, комментариев, «учебников» и писем, которые он считал пограничными между личным и общественным. И сами поэмы сотканы воедино из разных способов говорить: обыденной речи, мифа, письма, иностранного языка, народной песни, произвольного списка, шутки, дорожного знака, проповеди, личного обращения, журнала. Спайсер стремился сделать поэзию «коллажем реальности» и это связывает его с визуальными художниками Побережья вроде Брюса Коннера, того же Бермана и Джорджа Хермса, богемных творцов, составлявших свои ассамбляжи из поп-культурного мусора. То, что он делал, было не совсем методом «нарезок». Спайсер достигал ощущения коллажности, сталкивая в своих текстах разные языковые реальности. Блейзер отмечал, что если Данкен по-королевски удобно расположился в поддерживающем его ложе языка, то в случае Спайсера язык лежал перед ним бесформенной грудой, словно «кубистическое полотно, где хрен ты выберешься из этой жесткой рамки». Обилие в стихотворениях Спайсера каламбуров и синтаксической двусмысленности возвращает нас к этой оцепеневшей стихии, где повороты языка превращают поэмы в ленты Мёбиуса, колебания между фоном и персонажами, без всякой надежды на твердую почву под ногами. Этот деконструирующий сам себя вояж через знак и звук делает Спайсера предвестником постмодерна и ключевой фигурой для поэтов будущего.
В то же время Спайсер никогда не останавливался на характерных для постмодерна лингвистических забавах. Здесь его точка зрения была определенной: Иное использует язык, но не отождествляется с ним. В своем шедевре 1960 года The Heads of the Town up to the Aether он провозглашает «Все, от верха и до низа, есть вселенная. Расширенное прошлое вот что значат слова и внизу, черт возьми, то, что является словами». Как и Уоллас Стивенс, чьи метафизические телеграммы он иногда цитирует, Спайсер остается поэтом реального или, по крайней мере, той слабо уловимой зоны, где поэзия соприкасается с реальным. Оставаясь открытым в этой зоне во всей ее неопределенности, Спайсер отдается во власть Иного – в почти кающейся мольбе, которая помогает объяснить его подчас пугающий «язык Бога». Здесь в голосе поэта мы слышим пуританские или даже кальвинистские нотки глубокой американской печали:
Мы движемся механически
Во Вселенной бога, неспособные
Сделать что-либо
Без благодати Его либо ненависти.
Двусмысленность последней строчки демонстрирует – «Его» это притяжательное местоимение? – что христианство Спайсера было не менее загадочным, чем его языковые игры. Его Логос обычно сжимался до того, что он называл Lowghost. При всей сложности определения гностического оно остается лучшей характеристикой духовности Спайсера. Он назвал The Heads of the Town up to the Aether в честь одного из утерянных гностических текстов, и это заглавие прекрасно подходит книге из трех частей, наполненной эфирными колебаниями, столкновениями между человеческой и божественной любовью, а также непримиримыми поэтическими противниками – личностным ростом и надличностной передачей – тем, что в другом месте Спайсер определил как разницу между «почтой и ломбардом». Третья часть книги, Учебник поэзии, это глубоко интеллектуальная проза, своего рода катехизис, который приносит свой жутковатый плод после продолжительной умственной медитации над ним. Этот текст Спайсер считал одним из самых сильных из полученных им под диктовку.
Во всем, что его окружало, в поэзии и в мире, Спайсер видел настоящий заговор несчастий. В Големе 1962 года он предлагает крайне тревожный взгляд на экономический, политический и лингвистический «режим», в котором мы живем – клаустрофобное мошенничество, даже не Контроль Берроуза, который гарантирует, что трансцендентное у Спайсера всегда лукаво и коварно. В удивительном письме Джеймсу Александру, молодому поэту из Индианы, который стал для Спайсера самой сильной романтической музой, он рассуждает о «случайных местах», откуда «они» получают свои послания: «Коробка молотой пшеницы, пьяный комментарий, большой лист бумаги, на первый взгляд бессмысленный, но полный угрозы, невнятные бормотания». Это вам не встреча Уитмена с Гинзбергом в супермаркете. Это Эдипа Маас из Выкрикивается лот 49 Пинчона оглядывается в поисках приглушенного звука почтового рожка.
В калифорнийской мистерии Спайсера произошла однажды еще более странная синхрония. Вернемся на минуту в 1948 год, они с Данкеном в общаге живут рядом со странным парнем по имени Филип Дик, который как-то принес записывающий проигрыватель, чтобы сохранить во время поэтического перфоманса их языковые американские горки. Как пишут Киллиан и Льюис Эллингэм в безупречной биографии Спайсера Poet Be Like God книги Дика и Спайсера позднее стали почти зеркальными отражениями друг друга и в темах и в образах – кузнечики, марсиане, радио, торговцы и города. Как и Дик, Спайсер был почти нищим, отчужденным художником, для которого творчество было, по удачному определению Дарко Сувина жанра sci-fi – “когнитивным остранением». Оба стали культовыми фигурами, которые писали, отражая и свою и нашу эпоху. Спайсер, который имел дело с компьютерами в ходе своих лингвистических изысканий, писал о силиконе и перфокартах для IBM; еще в 1962 году он предвидел, что «Америка утонет в компьютерах и плаче», где «смерть это не конец, а только место для парковки». Мы все еще слышим пророческий голос Спайсера в его шершавых неуютных стихах, потому что он транслирует все нас окружающее: всех этих злых духов и бессмысленный шум.
2009
За гранью веры
Культы Burning Man
Ты должен носить в себе хаос, чтобы родить танцующую звезду
Ницше
Само пребывание в Блэк-Рок Сити подразумевает, что вы не можете сказать что-то определенное о фестивале Burning Man, поскольку его противоречивость подрывает любые обобщения, которые вы отважитесь сделать. Это трюизм, но над ним снова и снова размышляет любой завсегдатай фестиваля вроде меня, достаточно глупый, чтобы пуститься анализировать этот фест, проходящий каждое лето в Северной Неваде. За этим замечанием кроется важный запрет на интерпретацию, прямо как с Книгой Закона: снять с феста оковы объяснения, освободить его из коварных сетей Смысла. Отказ этот имеет вполне профилактическую цель: настраивая свои внутренние детекторы глупости на высокий уровень чувствительности, участники отбрасывают претензии, излишнюю серьезность и любой «предварительно упакованный» опыт, идущий вслед поздне-капиталистической субъективности. Эта тактика также помогает поддержать первобытную атмосферу на фестивале. Здесь мы едины в нашем бегстве от смысла.
Учитывая все это, я с некоторой опаской подхожу к одному из самых раздражающих вопросов касаемо Burning Man: можем и должны ли мы говорить об этом фестивале как о священном событии? Даже принимая во внимание размытость таких терминов, как священное, духовное, религиозное, благоразумно будет признать, что, во всяком случае, извне Burning Man лишен этого. Ироничный и богохульный, непристойный и под завязку забитый веществами, этот театр абсурда скорее воплощает беспечный нигилизм самого постмодерна. Более того, многие участники со мной согласятся. Судя по моим наблюдениям и интервью, для доброй половины участников феста духовность вообще не играет никакой роли в их буйном времяпровождении.
В вопросах духа, впрочем, никогда не следут доверять тому, что говорят люди. Иногда следует смотреть на то, что они делают и то, что они делают на Burning Man, иногда действительно перекликается с мистериями прошлого. Возьмем Элевсинские мистерии, величайший публичный культ Древней Греции. Время их празднования приходилось на сбор урожая на окраинах Афин, и проходили они ежегодно в течение почти двух тысяч лет. Посвященные и жаждущие посвящения стекались на них со всей страны, но в сами мистерии входили только после нескольких недель подготовки. В это время шли факельные шествия, народ жарил принесенных с собой в качестве жертвы свиней и участвовал в дионисийских представлениях. Кульминация мистерий проходила в телестерионе, где посвященные видели «невыразимый свет». Хотя происходящее нам в подробностях неизвестно, этот опыт, который по мнению некоторых ученых, был вызван психоактивными веществами, позволял напрямую постичь тайну жизни и смерти. Нельзя не заметить сходства между Элевсином и Burning Man, что не укрылось от основателя фестиваля Ларри Харви. В написанной в 1995 году под псевдонимом Даррил ван Рей статье для Gnosis Харви отметил, что, как и в Burning Man, в мистериях участвовала самая пестрая, в основном городская, толпа. «Ритуалы, предлагавшие прямое и интенсивное экстатическое переживание, не выделяли одну доктрину над другой, но были направлены прежде всего на внешнюю зрелищность и одновременное внутреннее переживание». Хотя Харви, кажется, выдает желаемое за действительное, его мнение полностью совпадает с величественной фигурой Аристотеля: «предполагаем, что посвященные овладевали не точным знанием о чем-то, но погружались благодаря впечатлениям в особое состояние разума».
Впрочем, на фестивале даже без Аристотеля сразу заметны р,елигиозные и священные символы. Хотя они и подразумевают определенный уровень иронии или серьезности, участники вовсю пользуют христианство, сатанизм, буддизм, шаманизм, западный оккультизм, тантру, иудаизм, викку и другие тематические площадки духа в оформлении костюмов, палаточных лагерей, скульптур и выступлений. С 1994 года я успел поучаствовать или быть свидетелем церемоний вуду, обезьяньих песен с острова Бали, молитв на шаббат, ритуалов сантерии в сопровождении барабанов, йоги на восходе солнца, спиральных танцев и группового дзадзен, а однажды нас с другом даже втянули комментировать пышную Гностическую Мессу OTO. Одни из этих постановок саркастичны или даже богохульны (особенно в случае христианства), другие совершенно серьезно пытаются выжать самое сочное из более-менее традиционных образов и ритуалов.
Но как далеко заведет нас разница между сарказом и истовой серьезностью? Слишком сухим и буквальным будет исследовать духовность Burning Man, просто перечисляя и занося в каталог образцы религиозных традиций или отдельные случаи «аутентичных практик». Аутентичность в данном случае легко может стать ловушкой. В лучшем случае фестиваль соединяет иронию и аутентичность традиции в ленту Мёбиуса, где вы никогда не поймете, на чьей вы стороне, но неизбежно будете двигаться дальше. Эта продуктивная двойственность, союз сакрального и профанного, играет в священной силе Burning Man ключевую роль. Специфические религиозные элементы на фестивале важны не сами по себе, но в отношении друг к другу и к более тонким аспектам действа: похоти, мусору, пустынной пыли. Это широкое поле взаимосвязей стремится не к целостности, но к множественности: суетливый карнавал душ, метафизический блошиный рынок конструктов реальности, перетекающих друг в друга под палящим невадским солнцем.
Так можем ли мы сказать что-то осмысленное о духовной составляющей Burning Man? Мой подход состоит в том, чтобы вытащить кое-какие культурные паттерны фестиваля – которые я называю «культами» – и рассмотреть их на фоне контркультурной духовности Западного Побережья. Самый важный культ это Культ Опыта, к которому принадлежат в каком-то смысле все участники Burning Man. Я также скажу пару слов о Культе Опьянения, Культе Совмещения, Культе Мерцания и Культе Бессмысленного Хаоса. Список этот, конечно, не окончательный. Важные культы Блэк-Рок типа Культа Плоти и Культа Бессонницы, я разберу в другом месте.
Хотя мои комментарии опираются в основном на культурную историю, я также расскажу о собственном опыте посещения феста, который с 1994 года почти не пропускал. Под собственным опытом я имею в виду не только рассказ о том, что я видел и на какие мысли это меня навело, но также те моменты космического чуда и прозрения, которые периодически вспыхивали в нервной системе, иногда обезоруживающе ослепительно. Один особенно потрясающий эпизод произошел в 2002 году на так называемом Плавающем Мире. Учитывая водную тему, я надеялся проделать одну сольную фишку, которую планировал уже несколько лет, но всегда было то лень, то я отвлекался на что-то. Натянув купальный костюм, маску с трубкой и ласты, я шлепнулся на бразильское полотенце на краю пляжа прямо рядом с Эспланадой, скрестил ноги в лотос и сел медитировать минут на сорок пять или около того.
Естественно, я уже слышу недовольное бурчание из зала что просто пытаюсь влиться во фрейдистское «океаническое сознание» как инфантильное возвращение в материнское лоно. Как угодно; но ласты реально сработали: огромные желтые утиные лапы, которые я купил в магазине подержанных спортивных товаров по соседству с Уэст- Портал в Сан-Франциско. Усилить мою и без того придурошную медитацию этими причиндалами Дональда Дака было правильной тактикой – в итоге фотка со мной появилась на сайте феста. В качестве бонуса этот трюк предполагал еще и внутренний эксперимент: что произойдет, если я соединю дурацкий прикид с серьезной медитацией?
Начиналась моя падмасана в ластах неплохо. Заняв правильную позу и расфокусировав взгляд, я уловил далекий аромат шалфея, который все усиливался, пока я не почувствовал, что кто-то невидимый окуривает меня этим любимым растением силы всяких индейцев от New Age. Постепенно мое сознание раскрылось навстречу окружавшим меня звукам, хотя я не столько слушал, сколько сплетал разные звуки в сплошное акустическое полотно. Хотя я всеми силами пытался не концентрироваться на источниках звука, из них скоро выделилось отчетливое утробное рычание, что-то вроде Arrrghs. Забыв на секунду о медитации, я четко классифицировал источник звука: Пираты. Раз темой года была вода, то я ожидал увидеть здесь много подобных групп: мерзких, шумных юнцов, идущих по тонкой и опасной границе между восхвалением анархо-содомитов прошлого и сочетанием третьесортных голливудских карикатур с тупыми ужимками богатеньких сынков. Но встретиться с ними все же пришлось.
Тут же я услышал, даже скорее почувствовал, что по моему следу мчится огромное животное – и не зря. Пират навалился на меня и раскрутил так, что я залил слюной всю трубку; а он, делая вид, что отрубает мне голову, нажал красным пластиковым мечом на шею, особенно сильно надавив на кадык. Благодаря тому, что падмасана поза очень устойчивая, мне удалось удержаться на месте, даже завертевшись как крендель и я больше регистрировал, чем реагировал на инцидент. Попрыгав вокруг с минуту, пират заботливо вернул меня в исходное положение и унесся прочь. Немедленно восстановив асану и дыхание, я просидел потом еще с полчаса.
При всей окружающей Burning Man риторике о важности «участия» такие спонтанные встречи здесь редкость. В чужой «трип» можно влезть без проблем, а вот два «трипа» редко накладываются друг на друга, тем более с несогласованным физическим контактом. И по сей день я с удивлением вспоминаю бесцеремонность моего пирата, его идеально дзенское чувство возможности – не только комической, но и космической. Мне вспомнилась тибетская практика чод, когда йог предлагает свое тело кровожадным демонам с целью освободить себя от привязанностей.
Подозреваю, что мой пират понятия не имел ни о чод, ни о Чиннамасте, тантрической богине, которую рисуют обычно держащей в руках собственную отрубленную голову, и фонтан крови из нее льется ей прямо в рот. Но неважно: чувак внес вклад в мое просветление и это главное. Я был повернут в сторону солнца и постепенно жар под веками начал усиливаться, погружая меня в меланхолический экстаз. Вдыхая и выдыхая свет, я чувствовал, как мое сердце наполняется страданиями всех живых существ в этом мире. Итак, я сижу с разбитым умиротворенным сердцем, утиные ласты врезаются в лодыжки, фиолетовая маска медленно наполняется слезами. Вскоре транс стал спадать. Я слышал, как люди фотографируются рядом со мной и почувствовал гордость, которая тут же растаяла, как и остальные ощущения, в красном шаре тоскливой абсурдности, в которую превратился момент.
Культ Опыта
В самой идее Burning Man заложен призыв к личному эксперименту. «За гранью веры, за гранью догм, кредо и метафизических идей лежит непосредственный опыт», писал Харви. Новички быстро понимают, что здесь ты не сможешь остаться простым наблюдателем, тупо потребляя очередное зрелище. Напротив, поощряются участие, спонтанность, даже (и особенно) сопряженные с риском, дискомфортом или тем, что родители обычно называют «строить из себя идиота».
На базовом уровне культ опыта проявляется в бесконечной череде интенсивных и при этом далеко не всегда приятных ощущений: иссушающая жара, вонь из биотуалетов, сопли и прочие радости. Все это напоминает вашему телу, что вокруг что-то происходит. Еще этот культ выражается в постоянных соблазнительных раздражителях: мигающий свет, экзотическое тело или какой-нибудь веселый балаганчик, которые стремятся отвлечь вас от цели или желания, с которыми вы пришли сюда, или просто, чтобы погрузиться как можно глубже в неистовое пламя жизни, пылающей Здесь и Сейчас.
Burning Man предоставляет участникам отличную возможность обмениваться готовностью и возможностью поддержать новый опыт. Этот опыт, в свою очередь, порождает истории, реальную валюту фестиваля, которые рассказывают у костров, и которые в итоге возвращаются к mysterium tremendum (непостижимой, вызывающей священный трепет загадке – прим. перев) самого сознания.
Культ опыта требует поистине сизифова труда. Люди по самой своей природе порождают привычки и обычаи – это и есть наши модели мыслить, чувствовать и воспринимать. Хотя Далай Лама может почувствовать «непосредственный опыт» здесь и сейчас на своей подушке для медитаций, люди и так всегда ныряли в бессмысленный поток сознания, насыщенный лозунгами, верованиями, повторяющимися воспоминаниями, противоречивыми планами и картами восприятия. Burning Man все это смешивает. Более того, со временем «спонтанность» фестиваля превращается в рутину – это неизбежный процесс, почему многие старожилы феста прекращают его посещать. Тематические лагеря и выступления слишком знакомы, альтернативные стили коммуникации стали признанными и естественными, поэтому участники и разработчики начинают создавать системы – психологические и технические – нацеленные на хаос и страх. Даже приказ «Участвуй!» уже выучен наизусть, а часть экспериментального этоса фестиваля теперь включает активное и творческое сопротивление процессу жуткой квази-алхимической кальцинации.
Надо сказать, что фокус на опыт имеет глубокие исторические основания в американской духовности. Еще в середине девятнадцатого века в христианстве янки возникла идея личного переживания, которой успешно пользовались возрожденческие церкви всех мастей, чтобы доводить толпу до обморока, судорог, видений и откровений. Но фундаментально важной для осмысления религиозного опыта эту идею сделал Уильям Джеймс. В своей знаменитой работе Многообразие религиозного опыта он утверждает, что опыт, а не вера, есть основание религиозной жизни. «Чтобы понять смысл религии, мы должны обратиться к бесконечному содержимому религиозного сознания». Этот упор на сознание предвосхищает дальнейший уход религии в сферу индивидуализма, поощряя интерес к мистицизму и тому, что впоследствии было названо «измененными состояниями сознания». Джеймс пишет, что необходимо учитывать эти состояния, если мы хотим получить адекватную картину вселенной во всей ее полноте. Очень уважаемый многими современными психонавтами, Джеймс и сам был в теме, экспериментируя с эфиром, окисью азота и пейотом.
В общем и целом Джеймс описал этот феномен в христианских терминах, хотя он также упоминает современные ему движения вроде Новой Мысли, своебразных прелшественников New Age. Но «культуры сознания», идущие в авангарде духовности Западного Побережья, четко отделяют измененные состояния сознания от привычных религиозных форм. В beat-кафе и Кислотных Тестах, более формально – в ретрит-центрах Эсалена и Ojai Institute – начинает исследоваться множество «пост-религиозных» феноменов. Богема всегда обертывала личный опыт романтическим флером, и этот романтизм нашел свой выход в склонности контркультуры к примитивной экзотике и психоделическому ориентализму. Но калифорнийская сцена отразила, кроме того, прагматичный западный взгляд и эмпирический подход к вопросам духа, который сделал инструменты важнее веры. Изменяющие сознание техники вроде медитации, биологической обратной связи, йоги, различных ритуалов, камер депривации, тантрического секса, дыхательных техник, боевых искусств, групповой динамики и наркотиков были поставлены выше властных иерархических структур, характерных для традиционных религий. «Духовность» стала противопоставляться «религии». Даже когда оформленные традиции вроде дзен или суфизма тоже были взяты на вооружение, из них извлекали только практические техники, выкидывая вон нудную космологию или этические заповеди. Опыт стал единственным учителем, подчас довольно коварным; эфемерные прозрения и экстаз легко могли обернуться глубокой депрессией, в которой практик утопал без спасательного круга хоть каких-то убеждений. Тем не менее, учитывая всеобщее ощущение грядущих великих перемен, политических или духовных (или и тех и других), именно опыт стал главной тропинкой контркультуры к трансформации.
Забавно, но это отношение отразило современные антропологические воззрения на пограничные состояния и ритуалы перехода. Как объясняет культурный антрополог Виктор Тернер в книге Ритуальный процесс, новый, интенсивный, дестабилизирующий опыт ассоциируется у нас прежде всего с обрядами инициации, обеспечивающими переход в новый социальный статус. И поскольку 60‑е и 70‑е обыграли этот обряд в новом контексте, поле возможной трансформации и получения значимого опыта стало куда шире – и точно одной «духовностью» не ограничивалось. В топку опыта можно было бросить все и все могло стать катализатором. Даже просто напряженная ситуация или искренний порыв к чудесному могли быть потенциальной стартовой площадкой нового – и свободного – я. Это отсутствие границ помогает объяснить один из самых удивительных элементов в субкультурах той эпохи: парадоксальную смесь неприкрытого гедонизма и духовной аскезы. Многие жили между этими полюсами постоянно – медитируя и соблюдая пост одну неделю, горстями глотая спиды на тусовках – другую. Еще более характерным был «дионисийский» сплав этих двух моделей поведения в духовный гедонизм, куда входил священный секс, психоделическая магия и удивительные воображаемые встречи.
Burning Man агрессивно расширил эту традицию гедонистического экстаза, особо подчеркивая ее практическую ценность. Эффекты оп-арта, дезориентирующие звуки, избыток сенсорной стимуляции и концептуальных отсылок помогли прорвать жесткие рамки стабильного эго, не позволяющие насладиться свежестью пребывания Здесь и Сейчас. И в самом деле, фестиваль часто воспринимался как уникальная машина, воздействующая на все чувства сразу, созданная, чтобы настроить наш разум в соответствии с его способностью создавать мир на лету.
Непристойность, богохульство и гиперактивность – вот что еще отличает Burning Man от сект движений и культов (иногда вполне себе деструктивных), заполонивших калифорнийскую контркультуру. Глупо будет отрицать, что в явлении Burning Man нет ничего от культа, как в организационной структуре, так и в трансформирующем воздействии на участников. Но культ из него вышел довольно свободный и наспех сколоченный, не несущий никакого связного послания или принудительных требований. Увеличивая возможности для нового восприятия и измененных состояний, но снижая при этом ценность индивидуальных трипов с помощью творящейся вокруг вакханалии и стойкого отвращения к сакральному ханжеству, Burning Man, особенно в сравнении с контркультурой 60‑х и 70‑х, представляет собой «позднюю» форму культа опыта, одновременно продвинутую и деградировавшую. Он глубоко скептичен в отношении явных проявлений силы или претензий на смысл, но оптимистичен в отношении регенеративной способности творческой, полноценной жизни. Итак, при всей нелепости вера Burning Man в ощущение и карнавал сознания, в конце концов, практически чиста и невинна.
Культ Опьянения
Нельзя недооценить ту роль, которую психоделики сыграли за последние пятьдесят лет в стимуляции разных искателей духовности. Хотя Западное Побережье было отмечено авангардной духовностью с начала века, оно оставалось узким эзотерическим путем, пока ЛСД и другие наркотики не предложили людям надежный и быстрый доступ в новые, интригующие состояния сознания. Самыми значимыми психоделическими предшественниками Burning Man остаются Кен Кизи и его Шутники. Сильно повлиявшие на Побережье, Кислотные Тесты Шутников были незабываемым выражением философии вечеринки – как – наркотика. Эти спонтанные тусовки с простой аппаратурой и цветистым бурлеском из комиссионных шмоток были смесью перфоманса, соучастия и шутки. Знаменитый автобус Кизи Furthur выглядел так, как выглядел бы Burning Man в 60‑х: работающий на газе, исписанный граффити, c укуренным водителем, несущийся по горным склонам с увешанными побрякушками придурками внутри, снимающими происходящее на камеру или орущими что-то неразборчивое через громкоговорители на крыше.
На первый взгляд Шутники дистанцировались от эзотерической позиции, о которой открыто заявляли другие психонавты, стремясь этим обосновать психоделический опыт. В Милбруке в северной части Нью-Йорка, этой интеллектуальной Мекке середины 60‑х, Тимоти Лири, Ричард Альперт (позже известный как Рам Дасс) и другие опустошали сокровищницы тантры, веданты и тибетского буддизма, пытаясь максимально полно истолковать свой психоделический опыт. Шутники были лишены подобных претензий, и их краткий визит в Милбрук, описанный в классике Тома Вулфа Электропрохладительный кислотный тест стал конфликтом культур. Кизи сказал Вулфу, что по мере того, как религиозное использование ЛСД растет «неверно будет относиться к нему как к святому причастию». Но Вулф также отметил нечто глубоко религиозное в манере самих Шутников, чье дурачество и систематическое бегство от смысла были продуктивными попытками сохранить с почти религиозным трепетом восприятие Здесь и Сейчас незамутненным и держаться ближе к истоку.
Учитывая аналогичное подозрение, которое Харви выразил выше, Вулф допускает, что все великие религии начинаются не с концептуального или философского прорыва, но с «подавления нового опыта». Эту гностическую вспышку переживают сначала отдельные люди или небольшой круг единомышленников, собравшихся вокруг харизматичного лидера, который кажется черпающим свое знание из тайных источников. Кизи, надо отметить, более-менее избегал такой мессианской роли. Он не был «указующим путь» и старался общаться со своим кругом косвенно или через загадочные лозунги: «Смотри ушами и слушай глазами», «Ты одновременно и внутри автобуса и вне его». В своей роли «Мистера Burning Mam” Харви еще скромнее, по крайней мере, для медиа-персоны, он довольно тихий. Хотя «внутренний круг» Burning Man не лишен сектантских замашек, Харви и его команда делают ставку на более демократичную модель, чем Кислотные Тесты: если ты находишься где-то поблизости от автобуса, если ты хотя бы видишь это сраное ведро на горизонте, всё, чувак, ты готов, прыгай внутрь.
Одна из причин, почему так много действительно «прыгнуло внутрь», состоит в том, что Burning Man это прежде всего вечеринка, а уже потом арт-фестиваль или массовый ритуал радикального самовыражения. Организаторы фестиваля всегда просят участников соблюдать те же правила, что и в обыденной жизни, хотя многих это не устраивает и снисходительность к любым формам опьянения видится им как фундамент нео-анархистской этики Burning Man. Хотя серьезные передозы или социопатический перебор с алкоголем здесь редкость, нельзя отрицать варварского аспекта подобной вседозволенности – как сейчас помню одну совершенно обезумевшую от ярости девчушку-подростка, которая, замахиваясь грязными кулаками, требовала продать ей кислоту, которая якобы у меня была. Тем не менее, невзирая на идиотизм и вспышки насилия, которые они порождают, любые опьяняющие вещества нельзя отделять от сакрального потенциала сознания. Другими словами, тому, кто знаком с когнитивным экстазом, рукой подать и до наркотиков. Бахус это бог вина, Шива курит бханг, а сибирские шаманы тысячелетиями употребляют красный мухомор. В своей исконной форме религиозную трансцендентность невозможно отделять от психоактивного освобождения.
С фундаментальной точки зрения культ опьянения на Burning Man это культ удовольствия, где за пальму первенства борятся алкоголь и экстази, в то время как более мощные психоделики остаются сакральными веществами со своим особенным культом, и приятны они только в качественном смысле термина. Психоделики или энтеогены (последнее название подчеркивает их духовный потенциал) усиливают и изменяют процессы восприятия, выдергивая сознание из его привычной колеи и повышая способность видеть мир сквозь призму чуда. В больших дозах они высвобождают из глубин бессознательного потрясающе живые откровения, видения космического единства, синхронистичности, а также демонической паранойи, с которой часто невозможно справиться, не прибегая к духовным техникам.
Сегодня вопрос психоделической духовности остается тесно связанным с проблемой аутентичности (см. главу Paisley Gate). Растущие по всему миру шаманские сообщества поддерживают связь с «растениями-учителями» в контексте относительно единого мировоззрения. Современные потребители, с другой стороны, в осноном летят вслепую, каких бы псевдо-шаманских воззрений они не придерживались. Несмотря на мистические озарения и магические парадигмы, завесу над которыми они могут приподнять, энтеогены для нас сейчас не менее современны, чем мобильный телефон: ценный товар, который надежно настраивает нервную систему на определенные каналы спектра сознания. С этой точки зрения можно сказать, что энтеогены вызывают нечто похожее на духовный опыт и логичнее будет смотреть на них как моделирующие реальность препараты с шикарными спецэффектами, но слабой смысловой нагрузкой. Сообщая, таким образом, каждому свою, важную только для него истину, энтеогены могут парадоксально вывести дух за пределы аутентичности.
Подобные странные петли не редкость на Burning Man, ставшем за последнее время передним краем американского психоделического фронта. Хотя точных данных я привести не могу, похоже, что значительная часть гостей фестиваля усиливает свои пляжные впечатления смесями вроде ЛСД, DOB, N2O, DXM4-hydroxy-DMT или 2C‑B. Но уровень психоделической интенсивности на фесте не зависит от морфологии или самого наличия «алфавитаминок», кувыркающихся в цереброспинальной жидкости (жидкость, окружающая головной мозг – прим. перев) эстетов от наркоиндустрии. Эту интенсивность порождает пребывание на самом фесте, особенно ночью, когда огни и огромные пустынные пространства становятся порталами, переносящими вашу нервную систему в спиновый цикл возможных миров. Даже те, кто предпочитает принимать аккуратно и с умом, собираются в эти вечерние полеты как настоящие туристы, пакуя рюкзаки, открывая свои психические врата целостному потоку синхроний, изломанных архетипов, визуальной фантасмагории и фрагментарных трансисторических контекстов – большую часть этого они на следующее утро даже не вспомнят. Находясь здесь в любом состоянии, ты больше не хозяин своей крыши.
В противовес серьезному «духовному» подтексту, окружающему употребление аяхуаски, психоделики Burning Man грубы, хаотичны и совершенно «бездуховны». Местный культ опьянения не делает различий между «хорошими» психоделиками и «плохими» тусовочными витаминками вроде экстази. Это неприятие сакральных мета-нарративов можно критиковать как опасный отказ придать энтеогенам интегральный, более высокий потенциал. Но я подозреваю, что, как и с культом опыта, этот отказ просто отражает присущий Burning Man дух когнитивного разнообразия, где психоделики важны прежде всего эстетически. И сам по себе психотропный ландшафт одновременно зачаровывает и разочаровывает, где забавные образы и безумная наука являются противоядием от неизбежных космических откровений, даже если мы вспомним Аристотеля: мистерии ничему не учат. И последнее: несмотря на важность визуальной составляющей, Burning Man не забывает и о специфической пустоте, которую дарят энтеогены. Эта пустота словно говорит: ты не можешь увидеть узоры без фона, на котором они проявляются.
Культ Мерцания
В вышедшей в 1970 году классике Expanded Cinema писатель из Лос-Анджелеса Джин Янгблад определил свою эпоху как «Палеокибернетический век». Выросший на Маклюэне и культе опыта, Янгблад почувствовал, как разворачивается новая фаза в человеческой истории, выпуская силу архаического сознания в технологическое общество, чье растущее понимание устройства систем – когнитивных, технологических, антропологических – стало фундаментом радикальных перемен. Янгблад наблюдал, как этот Палеокибернетический Век отражается в медиа-экспериментах, о чем и написал свою книгу – своебразный каталог революционных находок андеграундного кино, включая световые шоу, инсталляции и перфомансы. Для Янгблада «расширенное кино» тоже самое, что расширенное сознание, порыв – духовный и технологический – проявить призрачную механику разума в нашем мире. Это и называется культом мерцания.
Без разницы, как вы это назовете – палеокибернетикой, примитивизмом будущего или техноязычеством – художники Западного Побережья уже давно поставили визуальные технологии на службу трансовым состояниям вдалеке (и им предшествуя) от официальных границ современного сознания. Задолго до Кислотных Тестов и световых шоу в Avalon Ballroom в 60‑х, Сан-Франциско стало родным домом для совершенно эзотерической по сути традиции расширенного кино, куда входили джазовые проекции Bop City Jazz Гарри Смита и глубоко погружающие Vortex Concerts, поставленные Генри Джейкобсом и Джорданом Белсоном в San Francisco Morrison Planetarium в конце 50‑х. Во время этих концертов Белсон, который снял до этого возвышенно – космические экспериментальные фильмы Samadhi и Re-entry, проецировал в основном абстрактные образы через сотни проекторов, некоторые из них при этом вращались, приближали изображение или мигали на 60-футовом куполе планетария. Белсон описывал эту работу как «чистый театр, обращающийся напрямую к чувствам».
Менее заметное (но тем не менее, живое) в эпоху панка палеокибернетическое кино снова начало расцветать в начале 1990‑х, когда наступивший футуризм глобальной рейв-культуры смешался с возрожденной в Калифорнии склонностью ко всему психоделическому. Расширенное кино с распростертыми объятиями встретили в ночных клубах и особенно в субкультуре трансовой сцены (транс, открыто психоделическая танцевальная музыка с неизменным битом и сильно дисторшированной мелодией, только недавно начала сдавать позиции как доминирующий на Burning Man жанр). Несмотря на то, что цифровая смесь абстрактной графики и мистической иконографии, ассоциируемая с трансовой сценой, редко поднималась выше подогретого экстази китча, небольшая группа аудио-визуальных художников продолжала расширять границы жанра, изучая возможности модульного программирования и сложных алгоритмов для внедрения новых паттернов гипнотической абстракции.
Учитывая вездесущность жидкокристаллических экранов и мониторов в нашей повседневной жизни и невероятно высокого уровня спецэффекты, поступающие в массовые потребительские копии типа голливудских фильмов или ближневосточных конфликтов, поистине живой культ мерцания должен восстановить визуальное пространство за пределами коробки. Это, возможно, величайшая эстетическая победа Burning Man: создание огромной и хаотически взаимодействующей арены расширенного кино, которая сочетает широкий спектр визуальных медиа, и жестких и забавных, с самым мощным архаическим мерцанием всех времен и народов: пламенем.
От неопалимой купины Ветхого Завета до похорон викингов или иконографии ада, огонь всегда обладал мощной символической нагрузкой. Но настоящее величие пламени состоит в том, что описанный выше символизм лишь жалкий кусок картона или туалетной бумаги по сравнению с великолепием чистого пламени. Все мы – метафизические дети дуговых огней, костров или пропановых взрывов, очарованные всепожирающей алхимией красоты и опасности открытого пламени, которое изначально пылает в самой глубине нашего сознания. Двадцать тысяч лет назад, когда пустыню Блэк-Рок омывали воды плейстоценового океана, наши предки уже провели у костра бесчисленные поколения. Играющие вокруг отблески и тени сопутствовали устным рассказам и богине ведомо каким обрядам. Мы часто слышим, что в современной культуре потребления огонь заменил телевизор, но редко задумываемся о смысле этой фразы, а именно, что для древних огонь и был их телевизором. Часть этой гипнотической силы продолжает оживлять огненные шоу, которые остаются (несмотря на свои формальные ограничения) фирменным зрелищем Burning Man. Для зрителей эти ритуальные выступления становятся синкретическим культом мерцания и плоти; для артистов они означают встречу со стихией – рискованный танец силы, взаимное соблазнение и почти эротическую возможность лизнуть и поглотить бестелесный поток, питающий саму материю.
Прежнее безумие фестиваля постепенно и неизбежно его покидает в соответствии с требованиями безопасности и потенциальная деструктивная мощь Большого Костра сжимается все больше. Центральное событие Burning Man стало контролируемым запуском фейерверков, куда менее масштабным, чем пугающие и токсичные ритуалы прошлого. В деборовском смысле огонь постепенно становится спектаклем в эти последние дни фестиваля. Для него спектакль – тотальный псевдо-мир технических посредников, поддерживающих капиталистическую систему – глубоко отчуждает нас от реальной жизни с помощью бесчисленных образов. Хотя Burning Man стремится преодолеть это отчуждение и уменьшить связь с капитализмом через общий потлач, центральное событие фестиваля, чей неоновый пожар сливается с мириадами вспышек камер, напоминает нам, что на Burning Man также повлияли постиндустриальные поиски технической опосредованности. Но возможно ситуационистская критика Дебора ошибается насчет Большого Костра фестиваля, потому что само по себе зрелище пламени настолько глубокое, первобытно-дикое и древнее, что оно вмещает и одновременно превосходит любые контексты.
Несмотря на то, что фестиваль слегка укротил пламя, он при этом усилил другие технологии мерцания. Хотя экранов в Блэк-Рок Сити до сих пор немного, ночной пляж сам по себе становится огромным трехмерным дисплеем искусственного света. Ночью мы обнаруживаем себя движущимися через остаточные образы воображения световых художников, которые продолжают открывать и продвигать относительно новые (и стремительно дешевеющие) технологии типа лазеров, электролюминисцентных проводов, жидкокристаллических экранов, светящихся палочек и управляемых компьютерами импульсных ламп. Мириады линий, точек и мерцающих огоньков пляшут перед глазами, образовывая специфические картинки вроде пирамид майя, сердечек или медуз. Ландшафт Burning Man также служит музеем визуальной фантасмагориии под открытым небом, где можно найти Dreamachine Брайона Гайсина или кружевные узоры и трюки с восприятием оп-арта 60‑х или готические молнии всемогущих катушек Теслы. В общую картину вплетаются даже лучи и сирены полицейских машин, особенно ночью воскресенья, когда в фестиваль возвращается частичка древнего огненного хаоса. Это время бардо: дорожные знаки украдены, знакомые пейзажи исчезли, и ты вынужден двигаться в ночи, ведомый только туманными созвездиями медленно гаснущих огней.
Культ Совмещения
Как и все постмодернистское искусство со своими издевками и подражанием, эстетический язык Блэк-Рок Сити это язык совмещения. Потенциальный эффект любых коллажей и ассамбляжей, энергия совмещения, высвобождается с особенной силой тогда, когда разнородные элементы сливаются, сохраняя уникальность. Совмещение это фундаментальная стратегия сюрреалистов и их последователей в постмодерне и Burning Man занимает здесь не последнее место.
Мы часто слышим, как фестиваль называют тематическим парком, но это не совсем так – он состоит из тысяч таких парков, этаких карманных вселенных. Пространство и время меняются в этом огромном метафизическом блошином рынке, маскараде мемов, космопорте Моса Эйсли из Звездных Войн. Даже при том, что многие группы на фесте посвящены каким-то отдельным темам – вуду, бедуинам, осьминогам – эти элементы неизбежно пересекаются в безумном, но мудром вихре фестивальной жизни. Здесь совмещение раскрывается как формальная площадка для синхронистичности, когда два очевидно несвязанных друг с другом события или элементы вдруг образуют тайное звено, которое поражает того, кто его видит, мимолетной молнией смысла и узнавания. Даже на редкость дурацкие, скучные костюмы или приспособления могут спасти подобные случайные союзы, определяющие характерный для феста многоуровневый полиурбанизм, где синхрония становится базовой операцией социальной и когнитивной реальности, определенным видом «благодати», соединяющей разнородные фрагменты.
Совмещение, кроме того, это основная стратегия создания инсталляций, костюмов, художественных машин и тематических лагерей. Как и в случае с картинами Арчимбольдо, где человеческие головы созданы из ветвей и плодов, многие местные арт-объекты черпают силу из совмещения образа и материала: выставляющееся уже несколько лет подряд Костяное Древо Даны Олбани или ее же Тело Знания 2001 года, скульптура сидящего скрестив ноги человека, сделаннная из книг в твердых обложках, надоевшая, по крайней мере мне, еще больше, чем ее ускользающее сходство с Bibliotecario II Арчимбольдо. Другие сюрреальные контрасты возникают в помещении объектов – огромной пушистой игральной кости, кровати, одинокого пианино – на строгий минимализм самого пляжа. Тематические лагеря вроде Элвис Йога сшивают вместе элементы, относящиеся к разным пластам культуры; а костюмы часто бывают тряпками из комиссионок с яркими сочетаниями цветов, материалов и напоминаний о уже забытых субкультурах.
Эти разные уровни совмещения приводят к любимым эффектам фестиваля: абсурдности, нестабильности, иронии. Но они также маркируют озабоченность фестиваля духовными и религиозными силами. В этом контексте совмещение позволяет людям взывать к священным силам, обходя вопросы веры, серьезности или ответственности. Могу привести сразу несколько примеров. Для своего возникающего уже несколько лет подряд лагеря Twinkie Henge Дэннис Хинкэмп использует вечную тему Хозяйки, создавая уменьшенные копии этого мегалитического монумента. В 2002 году эспланаду украсили сидящим на ней огромным золотым надувным Рональдом Макдональдом, щеголявшим непальским третьим глазом и блаженно улыбающимся проходящей толпе. С 1998 года Финли Фрайер регулярно выставляет ослепительную часовню из переработанного пластика. В 2000 году Дэвид Бест начал серию совершенно потрясающих Храмов, которые стали одним из самых благоговейных мест пляжа; за исключением созданной в 2003 году мозаики из бумажных оберток конфет Mughal, он делает экзотическую филигрань этих структур из спрессованных кусочков, остающихся после производства детских паззлов с динозавриками.
Очевидная ироничность этих жестов на самом деле путь к глубоким и тонким движениям духа. От современности мы унаследовали глубокое разочарование как в культурных и принятых формах религии, так и в той вере, что их поддерживает. В то же время многие ощущают скрытое подозрение, что эти формы могут быть необходимы как временные порталы или сосуды для визионерских инсайтов или сакральных энергий, которых человек по-прежнему жаждет. Хотя эти формы могут с определенным успехом выходить на контакт с духом, в конце концов они все равно проиграют и станут идолами культуры потребления, безобидными пустышками или пародиями на самих себя. Утверждая ироническую взаимосвязь этих форм, мы обращаем внимание на их неполноценность, их неспособность удовлетворить нашу тоску или снять растущее разочарование. Подобный вид иронии это нечто большее, чем цинизм в сочетании со светским отречением или насмешками над духовными феноменами. Это сакральная ирония, отмечающая границы, а иногда и суть исторических религий. Когда Рамакришна надевал женскую одежду или Юньмэнь провозглашал, что Будда это куча навоза, смысл был в том, чтобы поколебать форму через контраст. Ироническое совмещение есть в этом смысле откровение, которое для минималистов духа очистит атмосферу от бесформенных идей; но максималисты на Burning Man соединят воедино осколки форм в упавшего наконец со стены Шалтая-Болтая, костер апокалиптического коллажа.
Духовная культура Западного Побережья имеет давнюю склонность к практике совмещения. Частично это коренится в синкретическом религиозном супермаркете Калифорнии, особенно Лос-Анджелеса, где похожие на луковицу а‑ля индуистские купола и майянские Масонские залы собраний прекрасно сочетаются с закусочными в виде шляп и апельсинов. Но эта чувствительность также идет из местных пластиковых искусств, уже упоминавшихся коллажах и ассамбляжах (см.Алхимию Мусора в этой книге). В конце 50‑х такие художники, как Брюс Коннер, Джордж Хермс и Уоллас Берман конструировали объекты и коллажи, густо замешанные на сексе, фетишизме и духах. Hearst Castle демонстрирует, что даже состоятельным калифорнийцам не чужда любовь к сочетаниям мест и эпох. Но к совершенно культовым объектам, в первую очередь, относятся Башни Уоттс Саймона Родиа, три огромных спирали, сделанные без всякого плана из бутылок, плитки и ручек чайных чашек.
Отчасти двигала этим порывом богемная экономика создания предметов искусства вдали от Нью-Йорка – художники играли с фрагментами и частицами по той же причине, по какой Шутники предпочитали одеваться в комиссионках – то есть приобщаться таким образом к истории. Возникшая мусорная алхимия делала явный упор не на необходимость вещи, а на новый вид эстетического удовольствия. Сегодня многие работы на Burning Man радуют нас именно дешевизной и часто дерьмовыми материалами, из которых они сделаны. Но в этом «восстановлении изначальной славы» есть глубокий смысл. По мнению поэта Роберта Данкена, который пользовался коллажными техниками в своих гностических стихотворениях, «обыденное столь же глубоко, что и сакральное, поскольку в творении нет ничего бесполезного». Если бы Burning Man был нужен лозунг, лучшего, пожалуй, и не подобрать.
Культ Бессмысленного Хаоса
Допустим, вам однажды захотелось бесцельно побродить ночью по пляжу, как вдруг вы замечаете что-то любопытное. Издалека вам видна только филигранная игра теней и света, сюрреальный оазис возможного удовольствия. Вы идете навстречу туманным огням словно на свет фар фантастического трактора, удивление растет, пока наконец вы не оказываетесь у ободранной палатки из толстых палок, арматуры и проволоки, с кучкой рождественских огней, питающихся от бурчащего генератора. Гениально! На сверкающем полотне ночи эта прикольная штуковина становится визуальной подсказкой, пробуждающей внутри вас ощущение красоты и чуда. Вы одновременно довольны и разочарованы, восхищены талантом, но при этом чувствуете во всем хитрую ухмылку развода. Зазывала космического карнавала склоняется к вашему уху и шепчет: «Это же только шоу, друг мой, давай четвертак и вперед. Еще один кружок на колесе? Ты посмотри только на эти дымящие огни…».
Фон Burning Man это больше чем пустой пляж или однообразная пустыня: фон здесь сама пустота. Языческие, пост-панковые, отчаянные выходки многих участников лишь самый очевидный знак нигилистической подоплеки событий – особенно важный сегодня, когда кибернетическое расплавление цивилизации увеличивает старую добрую пустоту в сердцевине человеческого состояния. Апокалиптический отлив Burning Man – над которым можно смеяться, игнорировать его или предаваться ему с одинаковой непринужденностью- спасает фестиваль, по крайней мере иногда, от клише и фривольности. Раскрывая объятия навстречу пустоте без страха и надежды, Burning Man усиливает ощущение общности и события, снабжая эти оптимистические культурные нарративы мрачной необходимостью. Пустота Burning Man не бесцельна – это творческий хаос, интенсивное взывание к новизне, юмору и чудным выходкам на краю бездны. Этой гиперактивностью фестиваль обязан дадаистам, Шутникам или любой другой группе вглядывающихся в пустоту творцов, занимающихся любовью на руинах. Но в то время, как дадаисты развлекали своей абракадаброй маленькие клубы Берлина и Цюриха, Burning Man покидает город в пользу театра абсурда – не в стиле братьев Маркс или абсурда Кьеркегора, но в стиле делового-Гонконга-субботним вечером.
Маниакальная всеобщая креативность Burning Man также преподает нам важный урок. Буддизм, даосизм и тантра считают, что реальность пустоты или бесформенного Дао это настоящий кладезь потенциала. Подобно квантовому вакууму, который рисуют энтузиасты свободной энергии, пустота рождает феномены из себя самой. Некоторые даосы считают медитацию и ритуал способом вернуться в состояние изначального хаоса, который соединит их с истоками жизни перед тем, как вернуть в стандартную вселенную пяти чувств. Burning Man принимает эту бесформенность вещей, создавая формы и сигналы, которые постоянно возвращаются в первобытный шум и хаос. Фестиваль манит нас, цитируя поэтически перефразированную Лексом Хиксоном Праджняпарамита-сутру, «соблюдать не соблюдая, пребывать там, где невозможно ничто субъективное или объективное, без любой физической или метафизической опоры, полностью изолированным от общепринятых идей, переживаний или описаний». Именно это и есть священный хаос.
Классическое восточное понятие о творческой пустоте отражает одно из важных прозрений западного анархизма – вещи изначально находятся на своем месте и прекрасно согласуются без управления извне. Даосизм и анархизм в своей «хаотической духовности» разделяют веру в спонтанную силу творческого процесса и чувство, что этот продуктивный поток отличается от очевидных социальных форм. Дао детерриториаризует, как сказал бы Делез. Этот процесс остается в сомнительной и подчас очень слабой связи с цивилизацией, которая требует порядка не только извне, но и сверху. Норман Жирардо пишет об этом:
Даос принимает факт того, что человек рождается в обществе, которое, естественно, диктует ему представление о том, что значит жить человеческой жизнью. Принятие феноменального существования требует глубокого осознания того, что осуществление и обновление человеческой жизни зависит от периодического возвращения в хаотическое состояние.
Современная цивилизация абсолютно отлична от прежних, поскольку сегодняшняя, лишенная корней империя глобального капитализма научилась впитывать, эксплуатировать и пользоваться хаосом очень хитроумными способами. Тем не менее, архетипический конфликт между хаосом и цивилизацией остается одной из наших глубинных бинарных мифологем вместе с добром и злом, мужским и женским. В одной из самых древних версий этого мифа верховный бог Мардук убивает Тиамат, богиню первозданного хаоса, а из ее тела делает небеса со звездами и созвездиями. Этот миф показывает способ, каким цивилизация, с ее склонностью к сложной организации, демонизировала матрицу из которой сама возникла, и которая всегда угрожает вновь пожрать ее волнами насилия и социальной анархии. Несмотря на то, что традиции вроде даосской сохраняют органическую связь с творческой пустотой, и разного рода фестивали и карнавалы вносят маленькие частицы хаоса в христианскую культуру Запада, большинство аватаров хаоса скрыты под массивной тенью патриархальных религий.
Антиавторитарные тенденции богемы всегда тянули ее к дионисийскому хаосу и практикам в духе «расстройства всех чувств» Рембо. Возьмем, к примеру, Кроули. Вдобавок к своему пророческому энтузиазму в отношении сексуальных экспериментов и психоактивных наркотиков, Кроули переосмыслил демонов западного оккультизма как древние, ницшеанского типа, силы, творчески расшатывающие патриархальную цивилизацию. Но самое открытое контркультурное провозглашение поклонения хаосу случилось в 1958 году, когда Керри Торнли и Грегори Хиллу, известных впоследствии как Омар Равенхерст и Малаклипс Младший, в калифорнийском кегельбане явилась богиня Эрис или Дискордиа. Неважно, было это на самом деле или нет (а почему бы и нет?), Малаклипс Младший сочинил главный текст дискордианства Principia Discordia или Как я встретил богиню и что я сделал с ней, когда встретил. Это визионерский ассамбляж недвойственной мудрости, шуток про хотдоги и соответствующих коллажей – ключевая сутра культа совмещения. Реальный хит в андерграунде 60–70‑х, Principia Discordia проповедует эклектичную, глупую и скептичную антидоктрину духовного хаоса или Зенархии. «Если ты сможешь овладеть нелогичным так же, как ты уже овладел рассудком, то каждый будет раскрывать смысл абсурда другим». Этот «магнум опиат» с его банальным глубокомыслием и затянувшимся прославлением священнного Чао во многом повлиял на трилогию Роберта Уилсона и Роберта Ши «Иллюминатус!», Церковь Субгения и в конце концов на Burning Man.
Неважно, понимаем ли мы его творчески или деструктивно, хаос провозглашает непостоянство всех форм. Поэтому он так забавляет и ужасает. Burning Man же колеблется в отношении к хаосу как таковому. За все это время фестиваль претерпел сильные изменения в структуре и характере и прошел по крайней мере две важные развилки. В 1990 Cacophony Society Джона Лоу увел все сборище из Сан-Франциско в пустыню Блэк-Рок. Семь лет спустя, после того, как Лоу исключили из организации, из-за несогласия в том, как управлять орущими толпами, Burning Man сменил главный пляж на небольшое частное местечко, известное как пляж Хуалапаи. По счастью временный, этот переезд сопровождался запретом автомобилей и огнестрельного оружия вместе с наложением полукруглой концентрической сетки на улицы (и дорожные знаки), что продолжается и сегодня. Фест 1990 года был, скорее, свободным собранием друзей в то время как современный Burning Man превратился в хорошо организованный и специфически городской феномен. Иными словами, подобно фриковой пародии на SimCity, этот фестиваль хаоса пришел, чтобы скопировать ключевую идею самой цивилизации.
Для этой последней, более «продвинутой», фазы было множество причин:давление местных жителей, требования властей и неизбежное желание творчески развивать публичные выступления. В общем и целом, наступление этой фазы было органически неизбежно. Участники с анархистским уклоном ворчали, что потакание контролю противоречит репутации фестиваля, как тому, что Хаким Бей окрестил «временной автономной зоной». В конце концов, священное Чао интересует необходимость этих перемен, особенно, когда они касаются самого священного Чао. Надо сказать, что до 1997 года Burning Man был не столько круче или привлекательнее, сколько хаотичнее, больше напоминая огромное первобытное племя у костра. Наличие огнестрельного оружия (в том числе автоматов), отсутствие дорожных знаков и контроля над безопасностью, головокружительная удаленность от гор и магистралей, да и в целом благоприятная тогдашняя демография – все это погружало фестиваль в состояние почти изначального хаоса, как чувственного и эмоционального, так и физического и инфраструктурного. На современном Burning Man хаос скорее подразумевается, он семиотический, а не системный, вариация на тему и без того сюрреальной экономики внимания, как в Вегасе или Таймс-Сквер. Почему так случилось? Во многом из-за кристаллизации устройства самого фестиваля: неизменного городского фона, появления ночных клубов у Эспланады, неоновой рекламы по ночам и вездесущего Человека, талисмана фестиваля.
Этому процессу удивляться не стоит: уж точно не тем, кто разбирается в духовном хаосе. Как писал Том Вулф в исследовании философии Шутников, спонтанная непосредственность восприятия Здесь и Сейчас становится все жестче, когда культ обрастает поклонниками. Социолог Макс Вебер называл этот процесс «рутинизацией харизмы». По его мнению, религиозные движения начинаются под влиянием харизмы талантливого, даже «сверхъестественного», лидера, молнией пронзающей повседневность. Со временем в поисках постоянного и удобного доступа к этой харизме образуются различные религиозные институты, школы, иерархии и догматы. Как замечает Вебер в книге Экономика и общество, «харизма не остается неизменной и либо превращается в традицию, либо рационализируется, либо с ней происходит и то и другое». К счастью, харизма Burning Man не сосредоточена в одном человеке – она заключена в неиерархичном социальном поле, которое составляют все участники. Однако невзирая на то, что в этом случае рутинизация не выливается в очевидные иерархии авторитетов, проблема все равно остается. В определенном смысле эта проблема самой урбанистической формы фестиваля – которая поддерживает лихорадочную многоголосицу Burning Man, сдерживая при этом наиболее явные и бесконтрольные проявления хаоса.
Все это, конечно, не значит, что Burning Man растерял священную искру. По мере того, как вампирические медиа и общество тотального наблюдения сжимают своими смертоносными кольцами сердце человеческого опыта, фестиваль успешно продолжает парадоксальным образом управлять временной автономной зоной. Культы, которые я описал, говорят в защиту этого парадокса, отражая культурную преемственность, которая сохраняет свою новизну и свободу отчасти благодаря тому, что заметает за собой исторические следы. Более того, мощное сочетание социальных и творческих энергий возникло именно благодаря повороту Burning Man к городскому типу организации. Кроме того, сейчас Burning Man поражает обилием потрясающих произведений искусства, которые пронизывают социальное пространство и личные взаимоотношения. Не стоит забывать, что утопия это прежде всего город. На неделю или больше Блэк Рок Сити становится полисом, где деньги заменяет обмен и потлач, где народ больше ходит пешком и ездит на велосипедах, чем на авто, и где гражданский долг идеально выражает наклейка на бампере, которую я видел в Беркли: «Практикуйте Случайную Доброту и Бесцельную Красоту».
Нортроп Фрай напоминает, что Уильям Блейк представлял себе Рай как воплощенное человеческое воображение и видел его при этом не мирным садом, где лев лежит рядом с ягненком, но пылающим городом. Другими словами, не Rainbow Gathering, но Burning Man сходит с ума. Подобно человеческому воображению, этот временный город одна колоссальная абсурдная выходка: он светится и мерцает всеми огнями психоделической радуги, он опьяняет и наполняет энергией формы, пожирающие его собственную энергию. В то же время в этом накале чувствуются смутные и неприятные нотки неопределенного будущего фестиваля, пульсирующие словно сигнальные огни на горизонте пространства-времени. Сейчас Burning Man Утопия и неизбежная катастрофа в одном лице. Но город этот также насквозь воображаем, как внутри, так и снаружи. Рим пылал, как пылаем мы, удивляя взрослых на игровых площадках плейстоцена и повторяя старый как мир мотив:
пепел, пепел, мы опадаем словно пепел.
2003
Aurevoir, la Contessa
Одной пятничной ночью 2007 года с сияющей в небесах Луной, пестрая толпа собралась на нейтральной территории у пляжа в Сан-Франциско, чтобы отдать прощальный привет самой сильной работе из всех, что Burning Man видел за свою историю: прекрасной даме, Графине. Массивный испанский галеон, погруженный на автобус со всем, что полагается: вороньими гнездами, такелажем, бочками с пресной водой, стал сбывшейся мечтой, мобильным архетипом, с таким количеством тщательно выделанных деталей, что стал судном более чем буквально. Ночью она стояла на якоре с развевающимися в стиле Летучего Голландца парусами, а утром ее вывез автобус с невидимым но изрядно накуренным водителем, который ехал слишком быстро, чтобы в клочья порвать ваш трусливый комфорт; вам не нужны были наркотики, чтобы разогнаться до скорости реального психоделического транспорта. К сожалению, в прошлом декабре этот величайший сосуд своеволия, всеми сорока четырьмя футами припаркованный на ранчо в Округе Васхо, Невада, был сожжен местным землевладельцем, не скрывавшим своей ненависти к фестивалю.
Созданная руками Саймона Чеффинса, Грега Джонса и кучи людей из Extra Action Marching Band, Графиня впервые появилась на фестивале в 2002 году. Это был год Плавучего мира, моей любимой темы Burning Man. В отличие от других тем, раздражающе абстрактных, очевидно, очень вольное понимание Плавучего мира трансформировало пляж в творческое пространство, где взорвавшийся огромный надувной осьминог какого-то придурка поспособствовал коллективной галлюцинации, не менее впечатляющей, чем Графиня или те нереальные медузы. Более того, пляж ночью и так напоминает море: океан бессознательного, по которому дрейфуют фрагментарные сновидения, куда мы поочередно ныряем. Или плывем, как в случае с этим роскошным, распутным галеоном, который носился по глади большого озера словно Пекод за Моби Диком – сценарий, который воплотился в жизнь в тот незабываемый 2002, когда Графиня устроила игру в салки в большим белым китом, которого тоже привез на автобусе пресловутый Флэш. Безумный и очевидно небезопасный турнир этих титанов, который мы наблюдали с приличного расстояния в несколько сотен ярдов был настолько веселым и фантастическим, что невозможно поверить, но потом он стал еще более прославленным зрелищем, билеты на которое продавали абсолютно хладнокровные рейнджеры.
Любой беспричинный акт силы это магическое действие, но было что-то особенно чарующее в обилии деталей отделки корабля, не имеющее никакой практической ценности. Именно этим силен Властелин колец : визионерской реальности его Средиземья мы отчасти обязаны художникам по костюмам и реквизиту, и часто в кадре присутствовало гораздо больше деталей, чем могла охватить камера. Подобный же избыток делает Графиню работой, проделанной поистине с маниакальной преданностью. Обсуждая колоссальные логистические трудности и вдохновенную помощь волонтеров, благодаря которым корабль был создан, Чеффинс сказал San Francisco Bay Guardian, что «идея корабля была замешана на женщине, за которой вы прекращаете ухаживать, после чего она живет своей жизнью. Мы все чувствовали себя в роли таких ухажеров». Логично поэтому, что самым известным украшением нашей леди стала носовая фигура женщины (которая, по счастью, была украдена прежде, чем корабль сгорел, и похоже, она все еще на свободе). Эта шикарная, затянутая в корсет красотка работы скульптора Моники Мадуро, стояла на носу, держа в руке фонарь, оба глаза закрыты, словно она ведет корабль в тумане среди чужих земель, карты которых разворачиваются на экранах ее внутренних век.
Многие тематические лагеря и арт-техника на Burning Man обычно являются лишь внешним фасадом, красивыми витринами, скрывающими банальный хлам из арматуры и проволоки. Еще больше таких, которые тематичны в очень свободном смысле, предлагая взамен дурацкий коллаж всего подряд и небрежную иронию, формирующие базис – часто непоследовательный и ленивый – пляжного искусства Burning Man. Однако, поднявшись на Графиню – выдержав прежде сокрушительный взгляд вышибалы с внешностью Конана-варвара – вы оказыватесь в обстановке грязного борделя, и пока подниматесь на палубу, не замечаете вокруг ничего, что напоминало бы современный корабль. На палубе вы в удивлении пялитесь на такелаж, паруса и потрепанную балюстраду. Тут какой-нибудь седой педик требует выключить вашу идиотскую вспышку, требование, которое некоторым кажется занудным и элитистским.
Будучи настолько насыщенной историческими деталями, Графиня стала гораздо более «аутентичной», чем обычно предполагается на фестивале. Я точно помню, что во многих она воскрешала детскую любовь к Пиратам Карибского моря в Диснейленде – аттракцион, который кажется смешным только идиотам. Как и Burning Man, Пираты это тоже гонка в стиле бардо, изобилующий пещерами клаустрофобный круиз через призрачные ландшафты желаний, анархии и воображаемых деструктивных машин. Только подумайте: в своей изначальной форме поездка заканчивается в пылающем городе, забитом накачанными бухлом, наркотиками и похотью безумцами. Все мы помним интригующего персонажа, известного как «рыжеволосая женщина». Впервые мы видим ее портрет в логове пьяных скелетов – это горячая, острая на язык пиратская королева с абордажной саблей; потом мы узнаем, что однажды ее похитили из горящего города, отчего вся история выглядит так, словно ее рассказали в обратном порядке, словно черную мессу. Оказывается, что этой рыжей красотке очень понравилась ее полная криминальных приключений новая жизнь – все это происходит до того, как ее портрет появляется в грязной берлоге. Все в стиле Графини, не находите?
Для пятничных поминок группа поклонников Графини смастерила ее уменьшенную копию, симулякр симулякра, так сказать. Перед этим они провели несколько часов в компании виски, воспоминаний, исполненных на банджо морских шанти и двух посвященных Графине песен. Горячо поблагодарили всех, кто участвовал, прочли Пьяный корабль Рембо, после чего Extra Action Marching Band, возглавляемые несущими серебристые баннеры девушками, во всеуслышание причитая на французском в мегафоны, повели толпу и медленно ползущую Графиню по сырому песку побережья. Доктор Хэл Роббинс нараспев зачитал Crossing the Bar Теннисона, и корабль поручили морской глади, где он вскоре занялся пламенем прямо как в старые добрые времена викингов. Девушки в очередной раз подхватили The Countess, которая гулким эхом отдавалась от металлических стен ближайших построек, как потусторонний даб:
Они провели тыщу белых ночей,
Чтоб построить корабль, который
Смешает в одно сперму, соль и ногтей
Окровавленных горы.
И думалось им, что задача легка; но пришлось им усвоить урок.
Так нет же! И пусть не слетит с языка дурака,
Что в койку графиню увлечь бы он мог!
2007
Бардо-полет
Я только что вернулся с пары недель в Коста-Рике, где выступал с докладом на полугодовой конференции Mind States и налаживал кое-какие контакты. Я надеялся подробно рассказать о важных встречах и открытиях, сделанных там, возможно в попытке компенсировать этим явную писательскую лень в течение этих двух недель, которая совершенно точно была навеяна реальными ленивцами, которых я видел среди листвы джунглей. Но единственное, о чем я сейчас могу думать, это адский обратный полет.
На конференции я участвовал в обсуждении творчества Филипа Дика, возглавив энергичную групповую дискуссию о потрясающем фильме Ричарда Линклейтера Пробуждение жизни, этаком Без солнца для совсем укуренных. Одной из главных тем, которую я развивал в обсуждениях было то, что в Тибете называют бардо: иллюзорное промежуточное состояние, с которым душа сталкивается после смерти, когда содержимое сознания возвращается, чтобы пугать и соблазнять посмертный образ, пока человек не родится вновь. Бардо, аттракцион в духе Данте с голодными демонами, дымящими огнями и совокупляющимися в будущем родителями, несомненно, одна из самых ярких картин посмертия и во многом очень полезная. В начале Пробуждения жизни Итан Хоук цитирует Тимоти Лири в том смысле, что если в нас нет ничего, что переживает смерть, последние несколько минут электрической активности мозга умирающий человек может испытать как проносящуюся перед глазами жизнь – или, как показано в фильме, почти бесконечный лабиринт снов. С этой точки зрения традиционное учение бардо может оказаться крайне полезным, несмотря на реальность смерти мозга: даже если нам удается хотя бы в последний миг оседлать эту волну, мы уже научились серфить.
Я также настаивал, что бардо окружают нас повсюду – не только в процессе умирания, но в сновидениях, промежуточных состояниях между сном и пробуждением, в чихании, оргазме и даже в коллапсирующих реальностях романов Дика. Смерть это лишь самый полный, яркий переход; мы постоянно испытываем ощущение растворения мира (особенно сейчас, когда происходят эпохальные перемены).
Путешествие в разных его формах тоже может быь репетицией бардо, намекая или предвещая что-то. И я сейчас говорю не о банальном туре по экзотическим или отсталым странам, где сакральные символы все еще имеют силу. Я также имею в виду изнурительную реальность современных коммерческих авиа-перевозок.
Допустим, вы это я и вот вы заканчиваете свое путешествие в Коста-Рику в аэропорте Сан-Хосе. Вы покидаете мир птичьих песен, смога и влажности, и вступаете в овеваемый кондиционером терминал, ничем не отличающийся от тысяч ему подобных. Терминал это врата в пограничную зону ничто, с порогами, проходами и устройствами, созданными повелителями воздушного пространства, чтобы переносить тысячи беспокойных душ туда, куда ведет их судьба, ну или, по крайней мере, по месту назначения. Терминал. Какое еще путешествие, когда мы почти закончили?
Двигаться через всю эту систему было, невзирая на царившую вокруг суету, удивительно пассивным занятием – подчинением, которое начиналось с потери собственного тела или, во всяком случае, относительной независимости и комфорта. Свободно парящее в пространстве, постоянно подталкиваемое в общем ряду, ваше тело больше вам не принадлежит, даже до того момента, пока вы, не попав наконец на борт, не упадете на свое сиденье, требующее поистине средневековых метафор – монашеской кельи, Железной Девы или дыбы. Даже до того момента, когда вы пристегнетесь на этом милостиво выданном вам пыточном устройстве, вам обеспечит тончайшую душевную пытку проход через салон первого класса – эти елисейские поля с кучей места для ног и бесплатной выпивкой вызывают, кроме сожаления, еще одну ассоциацию, с забытой теологической категорией избранных.
Так начинался мой бардо-полет. Сижу на автобусном сиденье борта 2614, жду, когда закроют двери, как вдруг передо мной в проходе возникает молодая женщина в форме и спрашивает, верно ли, что я Эрик Дэвис, и если да, то она просит проследовать за ней к выходу из самолета. На трапе меня встретили два костариканца в обычных костюмах с обычными бейджами охраны аэропорта, болтающимися у них на шее. Один из низ спросил, говорю ли я по испански (un poquito, “немного»), а второй пробормотал что-то про мою madre, отчего озадаченность перешла в страх, и я представил самый худший сценарий: моя мать давно умерла, но сейчас эти парни мне, видимо, докажут обратное.
Видя мою озабоченность, девушка пояснила, что охранник имел в виду девичью фамилию моей матери, под которой я регистрировался на борту, попутно сопроводив это требованием объяснить, зачем она им понадобилась. Ее английский был еще хуже моего испанского, но она объяснила, что мое имя есть в списке тех, кому запрещен въезд в Коста-Рику. Я попросил одного из охранников объяснить, почему, но он только нервно улыбнулся, а его коллега достал телефон, очевидно, чтобы продиктовать пресловутое имя. Я записал свое имя, особенно подчеркнув k – а то вдруг еще с кем-то спутают – но охранник, улыбнувшись, дописал рядом c. Первый в это время закончил разговаривать, ухмыльнулся еще раз и, кивнув головой, подтвердил, что «ок, ок, все нормально». Они завели меня обратно, оставив меня с парнями размышлять над инцидентом. Кто запретил мне въезд? Знали ли они, как правильно пишется девичья фамилия моей матери? Почему они не допускали, что я могу лгать? А все вместе выпарилось в единственный вопрос:
Какого черт…
Словно все герои Филипа Дика разом ожили; и если остаток пути будет этим вашим привычным адом отдельно взятых коммерческих авиалиний, то он все равно останется пронизан вязким, мутным чувством, вызванным произошедшей ошибкой и самоуправством архонтов, управляющих транзитными зонами.
Едва ли мою тошноту могла смягчить смесь из жирных орешков, диетической колы и песенок динозавра Барни, курлыкающих из портативного DVD какого-то придурка в соседнем ряду. Тем временем начинающаяся буря – нормальное явление – вынудила нас покружить некоторое время над Далласом, пока мы наконец не сели на гудрон шоссе почти на час, во-первых, чтобы нам освободили проход, а во-вторых, чтобы позволить молниям, от которых наземные службы были в ужасе, уйти куда-нибудь в другое место.
Пересадку мы проделали на удивление быстро, несмотря на хаос набирающего обороты шторма, привлекшего все внимание американцев. Позже мы узнали, что наш рейс на Сан-Франциско был отменен, и выстроились в очередь к двум менеджерам, которые ежедневно разгребают подобное дерьмо. Когда наш друг искал другой маршрут – в итоге посадив нас на утренний рейс в Рено, откуда мы потом в два прыжка добрались до Сан-Франциско, (утром он предстал пред наши заспанные очи в таком ужратом состоянни, которое я не берусь описывать) – очередь за нами все росла. Скоро толпа раздраженных, усталых и уже всюду опоздавших пассажиров начала напоминать беженцев, которым надеяться уже не на что. Я не мог представить, что из-за одного маленького шторма отменили так много рейсов.
Не буду описывать дальнейшие приключения, хотя стоит сказать, что они сопровождались вспышками паники, конфискацией крема для бритья, потерянным багажом, бесконечным телефонным ожиданием под мелодичные и надоевшие до смерти гудки, забронированные отели, номер с табличкой 666 и обилие встреч, в основном таких же бессмысленных, с менеджерами и прочими повелителями воздушного пространства, большинство из которых были некомпетентны и измотаны однообразными проблемами, и лишь немногие так полезны и вежливы, что казались почти ангелами.
Достаточно сказать, что единственным искупительным смыслом, который можно было извлечь, если смотреть на все происходящее действительно как на бардо, стало то, как и предрекали мудрые тибетцы, что к нам сторицей вернулись все наши страхи, желания и страсти. На грани самообладания меня ужасала мысль: а вдруг придется провести вечность, порхая в этом высотехнологичном аду среди лабиринтов мучений, усеянных бесчисленными деревьями с телефонными проводами вместо ветвей, и гремящим отовсюду «если вы хотите узнать о доступных вам опциях, наберите…».
Романтики жалуются, что мы, жители современного мира, утратили понятие о ритуалах перехода, но грустный факт состоит в том, что коммерческие авиалинии легко обеспечат вам и ритуал и переход, хотя принудительность этого ритуала не предполагает трансформации. Награда настигнет позже, а пока мы просто ложимся на алтарь бесконечного тревожного дрейфа.
Через окно мы с Джеем смотрели на потрясающие электрические разряды в грозовых облаках в духе доктора Франкенштейна. В полете нам иногда удавалось ухватить взглядом частицу великолепия танца земли и неба, молний на чернильно-синем фоне. Но когда мы поворачивались от иллюминаторов в салон, все, что мы видели, было еще одной клеткой, еще одним идиотским экраном, еще одним прикованным к галере рабом. Английскому поэту Генри Вону, которого очень ценил Дик, принадлежат такие, крайне уместные в этой ситуации, строчки:
Человек лишь челнок,
Чей извилистый путь и судьба -
Скользить по станку, прядя полотно своей жизни,
Покоя не зная.
2007
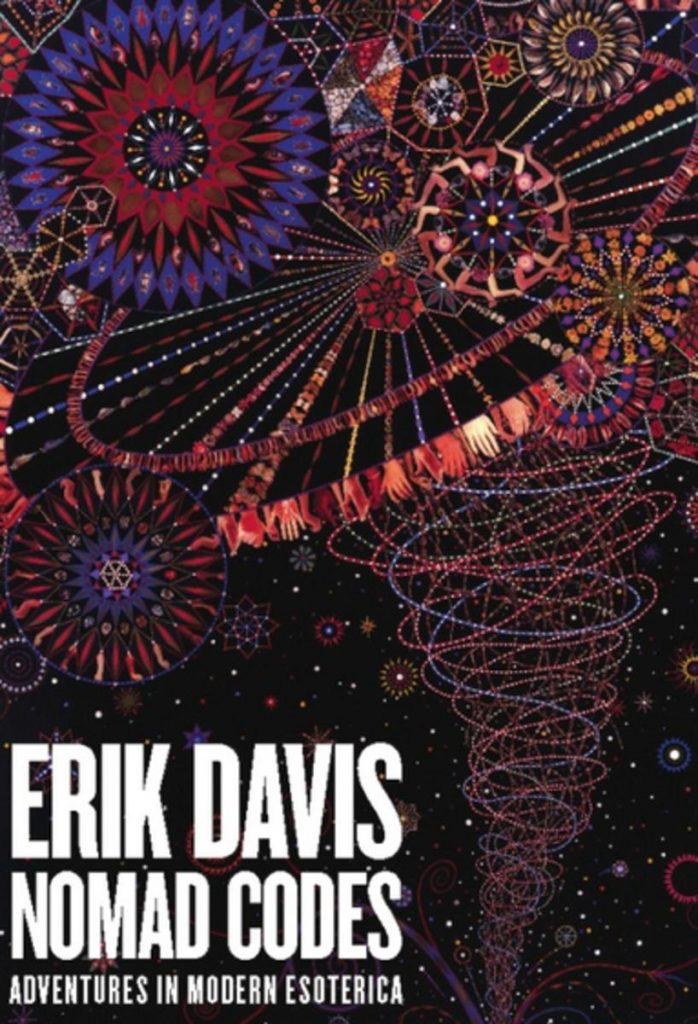












Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: