Сон в белом черепе
От редакции. Обычно к писаниям одной Редакции сочиняют вводное слово представители других, но сегодняшний случай — особенный.
Однажды воображение Вневременной Редакции посетил образ музыкальной группы, которая вечно существует в мире, находящемся где-то между отражением нашего мира и мрачной пародией на него. Однажды Вневременная Редакция обнаружила, что воображение дорисовало целый текст, с музыкой, магией, амбициями, шутками и прибаутками, трансмиграциями и катабазисами. К слову, хоть Редакция и занимается практически тем же самым, что и главные герои повествования, автобиографические подробности выискивать тут вряд ли стоит.
В любом случае, нужно придумать какую-то охватывающую все перипетии сюжета формулу, пусть будет такая: это история про союз амбициозных, загадочных личностей с той стороны зеркала, которые приблизились к его поверхности настолько, что вот-вот окажутся в нашем с вами мире. Смотрите, поверхность зеркала идёт рябью. Они почти уже здесь.
Если есть всемогущее существо, то оно должно быть способным и не делать что-либо: например, истинно всемогущее существо может существовать, не существовать и существовать, не существуя одновременно.
Э. Фуруи, «Анима и Анонимус»
Песочные часы – отличное изображение времени. Ещё лучше была бы только крепость из песка, неотвратимо распадающаяся под напором ветра и воды.
Если бы кое-кто был здесь, всё было бы проще, но этого кого-то нет. Я сегодня первый раз заменяю этого кого-то на публике, и сказать, что я волнуюсь – не сказать ничего. Организатор только что подсунул мне листок с расписанием наших выступлений (сегодня играют только лучшие группы мультивселенной), но я не могу понять ничего, что он хотел этим сказать. Время выступлений перечёркнуто и выведено заново, названия групп перечёркнуты и выведены заново. Я смотрю на него, и он виновато ухмыляется. Чтобы взять тайм-аут, мне придётся сбежать в туалет клуба.
Я прохожу по тёмному прокуренному залу и чуть ли не скатываюсь по крутой лестнице. С облегчением вижу, что кабинки не заняты и баррикадируюсь в одной из них. Этого мало, потому что я слышу, как мимо шляются люди, и побаиваюсь того, что кто-то начнёт ломиться в ворота моей крепости. Посмотрев на наручные часы, я с ужасом понимаю, что у меня не осталось никакого контроля над ситуацией: цифры перестали означать что-либо, а скоро то же может произойти и с буквами. Умываясь, я не вижу собственного отражения в зеркале.
Сегодня особенный день, особенная эпоха, конец пути и начало пути. Конец пути для ненастоящего мира, где желания никогда не сбываются и начало пути для настоящего мира, где желания сбываются всегда. И когда я, кое-как совладав с дрожью, поднимаюсь на сцену, все мои страхи внезапно рассеивает звёздный свет. Каждый из вас, из всех женщин и мужчин, существ и призраков, собравшихся в этом зале — одновременно ещё и звезда. И этих звёзд мириады. Их пламенный свет притягивается к нам, и оживляет нас, и сам оживает в звуке.
Я пою. И мы побеждаем. С одной стороны, эта победа даётся нам нелегко, ведь над ней мы работали всю историю. С другой стороны, эта победа даётся нам без кровопролития. Мы просто начинаем играть музыку, вы пляшете, и время рассыпается во все стороны. И сквозь время мы проникаем к вам, покинув свою исковерканную колыбель, и то, что наша колыбель исковеркала в нас, испаряется, истаивает без следа и мы становимся безгрешны, великодушны и добродетельны, как вы.
На этом начинается новый рассказ, уже не на страницах этой книги, а в будущем, но та часть сознания, которая по привычке начала цепляться за прошлое, остаётся и летит вслед за потоком зеркальных листьев, безуспешно высматривая в них свои отражения.

В начале времён нас не существовало, по крайней мере, в том виде, в каком мы представляемся себе сейчас.
Первые отчётливые припоминания относятся к крокодиловому веку. Он тянулся очень долго, не могу сказать, сколько — настолько мутными были мои мысли. В потёмках клуба для гоминидов, в который ящеры не захаживали, клубился дым папоротниковых сигар, сверкали белки и зубы Луи-Габриэля Шифера, дальних предков которого вывезли откуда-то из Гондваны, а ближних — с островов Бермудского Треугольника. «Луи и его оркестр расстроенных инструментов и торчащих музыкантов» — это был сплошной лязг и скрежет, клавиши пианолы хрипели и мяукали не в лад, вулканически ухал бас-барабан, и сам Луи с ожесточением дул в помятую, но кое-где блестящую подлинным золотом трубу, и слышались голоса, и громы, пробегали гномы, и кровь в бокалах завсегдатаев закипала, и жареная саранча расправляла крылья и спасалась бегством.
Меня всегда удивляло, как при пристрастии музыкантов к внутривенным инъекциям стигийской жижи они сохраняли достаточно оргона, прорывавшегося в их нескладных ползучих импровизациях. Во время моих попыток проследить за мелодией во время какой-нибудь такой импровизации она будто отращивала тысячу мелких маленьких ножек и удирала от меня что есть сил. Зачем мне было следить за мелодией, когда вокруг было столько других занятий? Ярость охоты в бескрайних полях, где тяжело колышутся тёмные травы? Полёты и падения среди туч цвета сажи? Шахматные партии на берегу простирающегося до самого горизонта моря, переходящие в кровопролитные дуэли? И погружение в саму морскую бездну, всё глубже и глубже, в поисках такой черноты, которая затмила бы мою природную черноту?
Роящиеся образы отвлекли меня и очередная мелодия-многоножка ловко ускользнула куда-то. Мой взгляд раздосадованно метнулся сквозь полумрак и тесноту клуба к выходу и тут же остановился, уцепившись за неведомо как оказавшуюся передо мной фигуру. И чужой взгляд, схлестнувшись с моим, сразу же прочитал природу моего увечья, и меня встретила радостная улыбка. Откуда-то появилась чернильница со змеиной кровью и пергамент из змеиной кожи, и чужая рука вывела на нём цепочку из знаков, ещё незнакомых мне, и моя немота пропала навсегда.
Это и стало причиной моего согласия участвовать во всех приключениях неповторимой группы «Я», завершившихся теперь уже известным всем образом. Благодаря этому мне удалось стать голосом группы. Конечно, название всё время менялось, не в пример оркестрику Луи. Мы не всегда даже были в буквальном смысле слова группой, я имею в виду, тем, что обычно считают «музыкальной группой» (это несколько взаимодействующих друг с другом многомерных сущностей с множеством укрепляющих их существование незыблемых подробностей, порождающих в результате одни лишь звуки). Это, как я полагаю, вы и сами видите. Вообще-то мы практически всегда были более чем одной группой. Нас было множество, и возможно, именно благодаря этому теперь мы встретились с вами.
До самого последнего момента, когда приключения наконец завершились, этот несокрушимый поток, однако, направлялся одной персоной и имя персоне было Юнксу. Именно эта персона сделала моё участие в жизни группы постоянным увлекательным уроком. Возьмём, к примеру, те же переименования. То, насколько в тебя верят, было когда-то важнее всего. Отдельные тоннели реальности постоянно играли на выбывание друг с другом, оспаривая друг у друга верующих. Но однажды была открыта такая истина: то, насколько в тебя не верят, сегодня важнее. Мы назывались и переименовывались исходя из этого. Чем неправдоподобнее, тем лучше, ибо правдоподобие без нелепых на первый взгляд выдумок огрубевает и бессильно замирает.
Ух, какие высокопарные разговоры! Но ничего не поделаешь, это прошлое, а с ним всегда так, когда начинаешь приглядываться. Вкратце это всегда можно описать как-нибудь по-простому: ну например, была одна группа, и была она всегда. Но тут сразу же начинают всплывать уточнения и подробности — конечно, вроде были и другие группы, но они то приходили, то уходили, куда уж тут уследить. Иногда эти другие группы были одновременно той самой одной группой. Были и другие деятели. Иногда они были теми же самыми деятелями. Но некоторые из них точно не были с самого начала до самого конца. Я почему-то не могу по рассказам точно припомнить самое начало, с кем и где и что кто тогда играл, но это несомненно происходило в то же самое время, когда в пространстве впервые зацвели багровые огни и полились ручьи лавы, когда грянул первый гром и блеснула первая молния, когда ледяные и песчаные пустыни стали соревноваться друг с другом в недружелюбности, когда трудно было удержать землю под ногами и небо над головой.
И мы были. Когда замолкал барабанный бой, оживала тростниковая свирель, когда прекращала дрожать струна, появлялся голос, и причудливая колесница, составленная из подобных частей, никогда не останавливала бег, обрастая со временем всё новыми и новыми частями: в ней становилось всё больше зубчатых колёс, всё больше механики и синтетики, и буквально на ваших глазах она превратилась в мерцающее облако. Или, вернее будет сказать, в ваших глазах?
Я поступаю согласно урокам Каими: всегда пишу себе собственные тексты. Согласно уроку, текст для вокалиста это некий фетиш, предмет для самогипноза, и чужой текст сможет загипнотизировать того, кто поёт, лишь тогда, когда будет переписан как собственный. Но это не значит, что я могу писать собственные тексты так же хорошо и что я вообще скоро приближусь к такому пониманию силы слова. В текстах, написанных голосом группы до меня, присутствуют сложные петли обратной связи, заворачивающие (или разворачивающие?) их в бесконечную спираль. Или что-нибудь вроде «видимых и невидимых рифм», как это называлось. Нерифмованный текст, который вызывает ряд очевидных ассоциаций, зарифмованных друг с другом. Или переходы с одного языка на другой, происходящие где-то на середине слова, мгновенно и без потери значения. Как бы то ни было, но текст должен быть нанизан на одну нить смысла. Её отсутствие всегда слышно у тех, кто не знает, о чём поёт (а таких певцов много, каждый профессионал знает, как создать «видимость выражения»). У того, кто не вкладывает в пение душу, каждая фраза существует отдельно, звучит как обрывок, часть лоскутного покрывала, сшитого из чего попало непонятно зачем.
Если сейчас начать вспоминать всё прошлое, то мы утонем в подробностях, как в бесконечно разворачивающейся спирали. Разгорится освещающее его пламя, но от этого пламени вырастет и тень. Пляшущая тень, и, в те моменты, когда ты, завернувшись в лоскутное покрывало, соскальзываешь по гладкой и мягкой яви в объятья сна — поющая тень.
* * *
Скармильоне сидел в отдельной ложе по правую руку от сцены. Его слегка обезьянье лицо не выдавало особенной радости или страсти: иногда он начинал кивать головой в такт музыке, иногда улыбался, иногда морщился.
Совсем по-иному вела себя публика. Впрочем, публике всегда нравились такие представления: немного экзотики, чтобы приоторваться от постылой жизни, побольше романтики, волшебства, изобилующих деталями костюмов, побольше общих мест и затасканных, сахарных мелодий и, наконец, возможность для блистательной примы продемонстрировать диапазон своего голоса. На одном восходящем каскаде трелей, к своему завершению левитировавшем где-то в третьей октаве, уважаемые посетители театра позабывали о благоразумии, вскакивая с мест и заглушая пение овациями.
Как случается в такие моменты, на мгновение и на меня чуть не подействовало это дурное волшебство и в мою голову в очередной раз закралась мысль: ведь могли быть Скармильоне и его многочисленные товарищи послами мира и любви, действующими исключительно из благих побуждений?
Однако само произведение действовало отрезвляюще. Рубиканте, любимец публики, писал либретто оперы, как будто заранее рассчитывая на популярность, но у меня в целом оно вызывало лёгкое недоумение. История рассказывала о сказочном принце из города Агарты, добивавшемся любви своей кузины. Он выдерживал многочисленные испытания, женился на ней, у них рождался ребёнок, но затем чёрные силы уводили его из семьи: злой колдун, превратившись поочерёдно в старика-попрошайку, в больного проказой и в отвратительный труп, смущал разум принца, который в ужасе от увиденного покидал родной дом, чтобы стать отшельником. Лишь при помощи доброй богини Мары (партию которой исполнял знаменитый контртенор) беглеца, обезумевшего от поста и молитв, удавалось вернуть в лоно семьи, а колдуна – примерно наказать, красочно превратив в кучку пепла и посулив ему бесконечные перерождения в теле навозного жука. Для меня воображение Рубиканте всегда было величиной почти отсутствующей.
От всей этой чародейской мути у меня начинала кружиться голова; не помогала и музыка, переслащённая мелизмами, трелями, псевдо-экзотическими гармониями, видимо, для того, чтобы замаскировать вторичность и бессилие композитора. Оркестранты и певцы под руководством опытного дирижёра искренне старались, чувствуя воодушевление публики, но все мои силы были сосредоточены на том, чтобы, пользуясь методом, придуманным Гарджи, не разделить всеобщего транса, памятуя о нашей задаче.
Когда дело дошло наконец до счастливого конца с наказанием злодеев, воссоединением влюблённых и подарками доброжелательной богини Мары – трио знаменитых певцов, очевидно, поддерживал хор – зал взорвался, устроив продолжительную овацию. Скармильоне невозмутимо раскланивался, жестами выражая благодарность всему составу исполнителей и всей публике. Он принял несколько букетов, а затем двинулся к выходу из ложи. Фигура в плаще заспешила, стараясь слиться с густой темнотой осеннего вечера, к отдельному выходу, из которого он должен был появиться. Моя фигура.
Другая фигура сидела на козлах кареты Скармильоне как ни в чём ни бывало. На фигуре был парик, похожий на причёску подкупленного ранее кучера, с которым они поменялись одеждой; шляпа была сдвинута на глаза так, чтобы ненароком никто не увидел лицо. Моё сердце учащённо билось, пока композитор прощался со своими высокопоставленными покровителями и садился в карету. Поводья взлетели, кони двинулись с места. Мне удалось незаметно вспрыгнуть на козлы.
Несколько кварталов мы проехали, следуя в сторону особняка Скармильоне, затем кони остановились, мы спрыгнули с козел, и, зайдя с обеих боков кареты, накинули на дверцы специально изготовленные для этого случая скобы, заперевшие нашу жертву внутри. Внутреннее убранство кареты, заглушавшее звуки (для того, очевидно, чтобы ничто не мешало сочинять музыку в дороге), на этот раз сыграло против Скармильоне. Никто не слышал его криков, когда мы выехали из города и через несколько часов езды достигли заранее приготовленного убежища.
Скоба с одной из дверец была снята, в руке Ахкаутли появился пугач, наставленный на Скармильоне, тому было велено выйти из кареты. Верёвка в моих руках превратилась в узлы, охватившие его запястья, мы ввели его в лачугу. Было такое ощущение, будто мы герои какого-то авантюрного романа про разбойников, правда, вряд ли кто-либо из нас троих был когда-либо на самом деле похож на разбойника. Вот выглядящая слегка бутафорской рука указывала Скармильоне на грубо сколоченный стул, вот в этой руке появились ножницы. Зрачки Скармильоне расширились.
— Всякий настоящий художник в наше время носит при себе ножницы. Вот вы не носите, и сразу всё понятно!
Ужас и недоумение композитора отражались на его лице. Ножницы распарывали сорочку Скармильоне сверху вниз. Теперь указующий жест был направлен в область живота Скармильоне, и, когда мой взгляд проследовал за ним, стало понятно, что мне нужно было увидеть.
У Скармильоне не было пупа.
— Дитя алхимии. Гомункул. Как и все они.
Как это могло случиться? Мне было совершенно понятно, о чём идёт речь. Передо мной ясно вставала Махина, невероятная конструкция, выстроенная вокруг причин и следствий, задачей которой было свести всё сущее к одной причине и одному следствию — пусть замаскированному под множество причин и следствий: ничего, кроме них, для неё существовать было не должно.
Пока перед моим взглядом не вставало прошлое, не существовало именно её, но как только начинали оживать воспоминания, вместе с ними приходили и бесчисленные подделки Махины, нелепые коллажи и симулякры, прошлое, воссозданное не из любви. Из стремления выкачать из него все соки, подпитывая всеперемалывающие жернова Махины.
Это всегда происходило по-разному, но перед тем, как стать полноправным участником группы, каждый из нас должен был через это пройти. Каждый должен был увидеть Махину, как когда-то она предстала перед глазами Элеуиа, что положило начало поиску новых возможностей, которым занялась группа — и во главе этого поиска до последнего оставалась одна персона. Конечно, для каждого Махина проявляла себя по-своему, но для каждого её проявление было в основе своей той пустотой, внутри которой не таятся бесконечные возможности, пустотой, лишающей мир (а для нас мир был музыкой) смысла.
Во времена Моны К. Уинтермьют, игравшей одно время вместе с нами сразу на нескольких деках, было модно такое: славапанк, романтика экранов, ширм, за которыми сидели оборотни и показывали друг другу представления театра теней. Для неё славапанк начался и закончился, когда она решила поэкспериментировать над собой, и эта «слава», пахнущая папоротниками мазь, оказалась втёрта в её кожу. Решение это, очевидно, было незаметно срежиссировано Хибики.
Потом Мона говорила: «Представьте себе вселенную, где вас на куски растаскивают неумолимые силы — причины и следствия, счастливые и несчастливые поступки, вселенную, где всё связано со всем, такой когда-то видели Сеть мыслители. Эта вселенная ужасно абсурдна, в своей абсурдности пытается объявить себя совершенной моделью, совершенной картой реальности, и при этом отрицает, что для совершенства необходимо неугомонное несовершенство, пустой угол картины, из которого могут родиться любые образы, не рождаясь: ведь в её модели все выходы привязаны к входам, все первые буквы алфавитов к последним, она словно вцепившаяся в собственный хвост собачонка, вертящаяся на месте».
Слава (в наречии одного мелкого народа это, кстати, значит «здравствуйте») переносила людей в такую вселенную, заставляя в неё уверовать — некоторые так и не разуверивались, настолько убедительно тебя запирало в клетку дурной бесконечности.
Так вот, Махина отсекала все новые возможности, и из-за этого превращались в бессмыслицу и старые. К тому времени, когда меня приняли в группу, Махина уже казалась плодом алхимии, которому в дальнейшем суждено было казаться плодом технологического или научного прогресса. В более раннем прошлом Махина была куда прямолинейней. Когда связь между миром и мелодией была гораздо очевидней (в конечном итоге любой звук — это сосуд бессмертия, отражённые и преломлённые миллионы голосов, хлопанье исполинских крыльев), Махина казалась самой тишиной и самой пустотой. Она вытягивала и мяла время и пространство, насколько могла, тогда-то Метрополис со всеми его проспектами и переулками, храмами и вигвамами, лавками и заправками укрылся в пучине вод до лучших времён. Она высекала глыбы безмолвия, выливала на вселенную нескончаемые потоки чернил, истребляя и заглушая звук так рьяно, что кое-где ткань самого пространства начала трещать по швам.
Однако это требовало громадных затрат сил, а силы у этой призрачной сущности были не бесконечны. И эти пустоты, паузы, отсутствия звука достаточно быстро стали так же важны в симфонии сущего (теперь называемой музыкой сфер из-за того, что самой устойчивой материальной формой сопротивления небытию стал шар), как и сами звуки; самое длительное, в биллиарды кальп, молчание, естественно, было такой же полноправной частью музыки, как и мельчайший шорох.
И тогда Махина попыталась лишить всю музыку смысла.
И тогда вся жизнь одного из обитателей нашего мира стала превращаться в магическую практику.
* * *
Плохой поэт не знает, где связь между явлениями и словами, призванными их отражать, он механически воспроизводит затасканные наборы штампов, назначенные кем-то другим без его ведома; хороший поэт знает, что означает каждое его слово, какой у него смысл или несколько смыслов; но лучший поэт — всегда отгадчик, тот, кому неизвестно до конца, но вот-вот уже откроется истинное значение того или иного слога, вздоха, звука, то значение, которому, возможно, суждено прозвучать сотни, тысячи, миллионы и миллиарды лет спустя.
Точно так же плохой игрок в игре жизни делает выбор неосознанно, не зная, что сулит ему выигрыш, а что — проигрыш; хороший игрок играет в свою пользу, учитывая собственные знания о природе вещей для своей победы, выбирая из многообразия вариантов самый подходящий для него; но для лучшего игрока всегда, в любой из роящихся моментов, сечений времени существует лишь один выбор, единственно правильный из всех возможных, выбор, которого не сделать он не может.
Кое для кого не было выбора — становиться лучшим игроком или нет.
В силу происхождения все мы обладали некоторыми магическими способностями. Все родившиеся в нашем мире не совсем обычны и все потенциально могут в какой-то степени овладеть волшебством. Те, кто послабее, для обучения примыкают к одной из традиций, те, кто посильнее, тоже примыкают к одной из традиций, но на более выгодных условиях. Те, кто ещё сильнее, создают из обломков чужих традиций собственные, а к самым сильным приходит видение совершенно новой традиции, которое они воплощают в жизнь. Видение, ставшее основой магической традиции Рё, было видением Бесконечных Возможностей. Оно было полной противоположностью видения Махины. В видении была Вечность. Вечность была Временем и чем-то ещё. В видении была Бесконечность. Бесконечность была Пространством и чем-то ещё. В видении была Мечта и что-то ещё. В видении был Кошмар и что-то ещё. И однажды, мне кажется, всё предшествующее мне существо превратилось во что-то ещё.
Первые шаги были достаточно невинными — буквальным образом первые шаги. Каждый шаг должен был становиться первым. Ни одного шага под барабанчик предсказуемости, последовательности, каждый новый шаг — новый порядок вещей. Поначалу было трудно не сбиваться: вокруг так много барабанчиков, которые так и норовят заставить подстроиться под их монотонный бой! Чем дальше, тем проще становилось не отвлекаться на их стук.
Впрочем, Сашина сфера интересов включала и другие традиции — то, что оказывалось пригодным, оставлялось, то, что было лишним, оказывалось забыто. Однажды оказалась пригодной практика исчезания по методу Гермеса Кровлея (возможности учиться у мастера напрямую не было, пара написанных им руководств пришла по почте). Кульминационным, пугающим моментом в этой практике стала ситуация на групповом собеседовании, где юная первокурсница, назначенная в пару Бо, попыталась рассказанную ей автобиографию. Удивительным образом она начала сбиваться уже с имени, на что, впрочем, никто из окружающих не обратил особого внимания. Далее последовали совершенно не соответствовавшие рассказанному ранее подробности этой автобиографии — от возраста до образования, от основного рода занятий до семейного положения.
Со временем практика эта оказалась усовершенствована таким образом, что начала прямым образом влиять на природу реальности. Даже сейчас, в записи, когда я упоминаю эту личность, имя, скорее всего, выглядит каждый раз разным. Видите ли, эта личность стала чем-то ещё, а что-то ещё всегда серьёзно изменяет то, что есть.
Мы никогда не перепутали бы того, кто ведёт группу, с кем-то другим. Когда мы заговаривали об этой персоне, было понятно, что речь идёт именно о ней, даже когда её имена сменялись в ходе разговора с невероятной быстротой. И всегда можно было заговорить с этой персоной, всегда — до последнего концерта.
Но когда подошло время последнего концерта, эта персона пропала, и нам оставались лишь воспоминания.
* * *
Мирадж откинулся на спинку сиденья.
— Хочешь знать, как я оказался в группе? К счастью, я до сих пор хорошо это помню. Это фантастическая история, фантастическая, как сама жизнь. Однажды некто спас моему отцу жизнь в одном из его путешествий — разумеется, ты понимаешь, о ком идёт речь — и преданность отца не знала границ. Долгом отца перед Хади стало исполнение одной просьбы, и отец даже и не подумал бы отказаться, какой бы просьба ни оказалась. Я рос крепким, здоровым ребёнком, и меня хотели отдать в ученики кузнецу, но как-то раз отец услышал, что я должен пойти в совсем другое учение. Отец не смог отказаться, хотя это могло стоить мне жизни.
Я помню свой вопросительный взгляд, направленный на Мираджа.
— А, дело в тогдашнем эмире, который правил краем, где мы жили. Эмир под страхом смерти запретил почти всю музыку. Видишь ли, у него не было никаких способностей к этому, а он был ещё и авторитетным жрецом культа. Поэтому дозволялись только определённые гимны Всевышнему – так они называли своё божество. Эмир очень любил сам распевать эти гимны по утрам в саду перед своим дворцом, окружённый телохранителями; мне кажется, он отождествлял себя с этим «царём царей», выводя гнусавые рулады. Но это мы готовы были выносить, хуже было то, что его зависть выжила из наших краёв почти всех музыкантов: он не мог стерпеть того, что они могли играть на каком-нибудь инструменте, а ему не давался никакой. Похожим образом, кстати, дело обстояло со многими запретами эмира — например, он не любил выпивку и запретил её совсем, ссылаясь на божественную волю. При этом каиф, который он постоянно курил, естественно, был разрешён. Или однополые отношения — по прежним законам за них полагалось наказание, но эмир особым указом сделал исключение для случаев, когда взрослый живёт с несовершеннолетним, потому что его брат был сильно привязан к юнцам. Звучит смешно, но это было даже, может, честнее, чем лицемерие сегодняшних плутократов, которые запрещают своим подданным то, чем охотно занимаются сами.
Мирадж вздохнул и поглядел в потолок.
— Так или иначе, когда отец привёл меня в учение, я очень удивился. Убежище было в доме, расположенном совсем недалеко от дворца эмира. Там были все «нечестивые» инструменты, и когда я переступил порог комнаты, я сразу услышал вопрос: какой мне больше нравится? Конечно, в нашей семье, семье путешественника, к религии относились спокойно, и я без особого страха выбрал стоявшую в одном из углов комнаты изящно изукрашенную альтавру. Мне было сказано, что с завтрашнего дня я буду играть на ней — не учиться, а именно играть. Я, конечно, сказал, что не умею, но ответ был таков: мне и моему выбору звука оказано высшее доверие. С тех пор мы и играли вместе, подумать только, столько времени прошло!
Слова Мираджа не удивили меня. Над Ю не был властен ни один эмир, ни один правитель, потому что не было в этом существе страха перед правителями. Обычно в нашем мире многие не ведали страха перед правителями, но всё же склонялись перед теми, кто оказывался сильнее их. Эрди было известно, что такое Мечта, и Вечность, и Бесконечность, и Кошмар, и правители самых обширных и могучих царств больше не казались тем, с чем вообще стоит считаться. Самым обширным и могучим было царство самой Смерти, но и его власть оказалась небезгранична.
Однажды вопрос, который меня мучил, воплотился в звуках. И всё-таки, почему нас не трогает Смерть? Старения можно избежать, постоянно изменяясь, но что же смерть, итог любой истории?
Во мне ещё тлело ощущение избавления от моей немоты как чего-то из ряда вон выходящего, чудесного, и избавление от смерти казалось чем-то несравненно более чудесным.
Возможно, частью магической практики того существа, что было голосом группы до меня, было обдумывание ответа именно на этот вопрос. Одно дело — быть неподвластным смерти и старению, другое дело — объяснить, как стать таким. Если спросить меня, у меня пока, пожалуй, не будет собственного ответа на этот вопрос. У Ли свой ответ был.
— В юности мне хотелось научиться побеждать любого противника. Были изнурительные уроки фехтования, стрельбы, бокса… Тогда ко мне ещё, разумеется, не приходила мысль о противоборстве со Смертью: возможно, мне стоило лучше засесть бы за шахматы или карты, потому что во всех историях, как правило, Смерть редко берёт в руки шпагу. Как бы то ни было, в один прекрасный момент мне стало понятно: как только ты побеждаешь «внешнего» противника, он побеждает тебя внутри. Если смотреть на всю историю как на противоборство, то это никогда не заканчивается — убийца и убитый, победитель и побеждённый лишь меняются ролями, меняются декорации, но остаётся ненависть. Насилие, на самом деле — уже поражение, и большинство школ боевых искусств занимаются только обучением тому, как поэффектней преподнести это поражение. Даже если символизировать его, превратив шпаги в карты, а пули — в монеты, суть остаётся неизменной: ввязавшийся в противоборство проигрывает вместе со своим противником. Вам повезло. Мне удалось стать мастером в одной из школ, которая не имеет большого отношения к музыке, достаточно тайной, чтобы не называть её имя, и всё это время, сами не зная того, вы учитесь у меня высшему возможному мастерству бойца: умению никогда не брать в руки оружие и никогда ни с кем не сражаться. Паломники Пути и Философы Камня утверждают, что для того, чтобы стать бессмертным, нужно переспать с собственной Смертью: пол и сексуальные пристрастия этой сущности разнятся в зависимости от пристрастий и аппетитов обучающего этому виду тайного знания. И до сих пор жаждущие бессмертия идут по этой дорожке с высунутыми языками и выставленными напоказ причиндалами, но у меня есть для вас гораздо более лёгкий — и более приятный для тех, кто не ищет удовольствий особого рода — способ его достичь. Вы не «боретесь и приручаете» Смерть, вы просто не ввязываетесь в игру Смерти и даже не начинаете сражаться с ней. Не начинаете сражаться с ним. Звучит так просто, не правда ли? На самом деле это и есть достаточно просто, даже, может быть, по-настоящему естественно. Взгляните на себя: вы здесь, и поэтому вам уже не нужно бороться или спать со смертью; вы здесь уже невероятно долго, и даже если звуки мелодии вашей жизни сменятся тишиной, сама мелодия будет продолжаться вечно. И пока вы не решили начать раздумывать о собственной судьбе и о составляющих собственного беспокойного «я», особенных преград у этой мелодии не будет.
До избавления от Смерти, впрочем, успело пройти очень немало времени. И было множество преград. Я помню Марселину. Она обладала целой коллекцией духовых инструментов: у неё дома были флейты из костей, всех мыслимых экзотических пород растений, свистульки из древесных грибов, рога, в которые трубили дикари с островов Мирного океана или ватиканские стражи, губные гармошки, переделанные солдатами императорской армии из патронташей. В поисках новых экспонатов она обегала все блошиные рынки, и из каждого тура с нами она возвращалась с новой добычей.
Она умела играть на каждом из них. Для Марселины важно было то, что исполнитель буквально вкладывал душу в инструмент, заставляя его петь. Это отражалось и на её личной жизни — не скажу, откуда это мне известно, но в постели с подружками она практиковала почти исключительно «стифлинг» — помесь ко-ин и удушения, и она всегда была внизу.
Марселина считала, что только духовые инструменты отражают равное партнёрство вместо отстранённой эксплуатации, и на этой почве у них возник спор с ещё одной эллинкой по отцу, Иотой Аполлинер, который закончился весьма трагически.
Иота, наоборот, предпочитала струнные синтезаторы всему остальному (очевидно, её любовницы не могли нахвалиться ловкостью пальцев Иоты), и как-то раз они устроили в одном из клубов своеобразную битву, позвав в судьи дюжину критикесс из авторитетных на то время в контркультурной среде фанналов. Они отдали предпочтение Марселине, и дальше произошло то, чего никто не ожидал: Иота хватила опасной бритвой по струнам одного из синтезаторов так, что они, специально натянутые до предела, хлестнули Марселину по лицу, превратив его в кошмарное месиво, из которого ручьями хлестала кровь. Врачи не успели её спасти.
Иота сумела скрыться на Парнасе, одной из колоний на Силене, неподвластных юрисдикции планетарной власти. Мы все горевали, все, кроме Ривьеры, как всегда. Для голоса нашей группы всё стало известным, и кроме этого, стало известным что-то ещё. И поэтому не было и никакого удивления ни перед какой ситуацией. Было предсказано, что некто избавленный от немоты спасёт всех в день конца пути, и день конца пути станет днём начала нового пути. Не то чтобы кто-то верил в древние предсказания. Не то чтобы эта вера вообще была. Но это такая хорошая невидимая рифма.
И когда ставки выросли, мы начали преодолевать даже время. Однажды началось раздолье. Черёд почти бескровной революции, и ей нужна была своя музыка. Лето хотелось потыкать во все осиные гнёзда общества, которые отвечали непонимающим, нестройным, паническим жужжанием. И делалось это через время.
Мы распостраняли нашу новую запись посредством корпоративных автоответчиков. В одном из музеев нашёлся толстенный справочник с номерами всех крупных предприятий страны давнего прошлого; предполагалось, что им будут названивать бизнес-подельники и заинтересованные покупатели, но случилось совсем не так.
Несколько дней у Юмы ушло на медитацию на старинные щедрые рекламные посулы, яркие плакаты и заманчиво выглядящие буклеты, а затем было придумано около сотни коротких песен, каждая из которых каким-то образом выбивала очередной клин из-под нашей эпохи, какой мы её знали.
Мы записали их в рекордный срок, а затем несколько десятков поклонников и поклонниц, приняв темпораин и включив «Ишчел, май белл», обзванивали крупнейшие предприятия и конторы, занимавшиеся продажей и перепродажей, обслуживанием и ликвидацией, защитой интересов и юридическим сопровождением, добычей и разработкой, облизыванием и выплёвыванием…
Автоответчики с той стороны безотказно записывали наши песни. Через несколько недель наша слава в прошлом укрепилась (сама по себе запустив какую-то фрактальную временную спираль, как в каком-нибудь тексте Керри) и пошли первые случаи подозрительного, странного поведения, охватывавшего ранее образцовых служащих. Вылазка в целом увенчалась успехом. Практически все клинья были в итоге выбиты из-под нашей эпохи — подозреваю, что последний клин вылетел тогда, когда моё сознание обнаружило себя в клубном туалете, в абсолютном недоумении, и мои руки теребили расписание концерта, которое перестало что-либо означать.
В основе воззрений группы было вот что: нет смысла проповедовать идеи свободовластия и прочего тем, у кого и так котёл забит ими до отказа. Поэтому проповедь стала преодолевать время, заодно разгоняя его каким-то образом. Мне так до конца и не понятно, каким. Среди наших обязательных философских занятий было изучение самых странных научных и поэтических теорий, но когда в них дело доходило до времени, мне обычно казалось, будто я всё ещё сижу за столом, слушая оркестрик Луи, а мелодия-многоножка всё ускользает и ускользает от моего слуха.
Я помню, что мы обсуждали мозголомные книги Чжэнь Чжоу‑И, ханьского писателя, метод которого заключался в том, чтобы плодить новые слова, составляя неведомые иероглифы из частей уже существующих. О сути некоторых можно было догадаться по внешнему виду составляющих элементов, но подавляющее большинство было тайной за семью печатями, известной лишь автору: да и то, когда ставшего популярным Чжоу‑И, уже порядком постаревшего, стали спрашивать о значениях его иероглифов, он не мог дать внятного ответа, ссылаясь на то, что уже и забыл, что значили те или другие знаки.
Чжэнь Чжоу‑И, наряду с Авидовым и прочими упоминался в качестве «титанов прошлого, обитающих в вечности» в отчётах экспедиции Кортеса, этноботаника, исследователя метафизики и тонких планов бытия, попробовавшего выжимки из семян «утренней глории», тлальтелолькийской лианы, где-то в джунглях страны амазонок. Кортес, и до того славившийся своей экстравагантностью, после этого окончательно соскочил с рельс, став неистовым проповедником нового философско-религиозного течения, среди доктрин которого была, например, трактовка магического принципа «что наверху, то и внизу» как устройства вселенной, при котором мы повторяем действия пришельцев из иных миров, находящихся в невидимых для глаза аппаратах, зависших над нашими мирами, причём главным источником зла тут являлось несовершенство повторения. Или наоборот, пришельцы повторяли за нами? Вот этого я точно не помню.
А оригинальное объяснение воскресения? Кортес однажды объявил, что моментальное воскресение (в которое верили, например, аттиане) — чепуха: к легко осознаваемому постепенному умиранию, «забыванию», Кортес добавлял и постепенное воскресение, «вспоминание», оба процесса для него проходили одновременно, для большинства живущих — в неравной степени. Однако истинные посвящённые могли склонять чашу весов в сторону воспоминания, вечно воскресая и таким образом достигая вечной жизни.
Вспоминание для Кортеса не было связано с воспоминаниями о прошлом, наоборот, он смеялся над оккультистами, которые набивали себе авторитет воспоминаниями о прошлых жизнях: по его словам, смешным было даже не то, что все они вспоминали, как были кем-то значительным, но то, что ни один из них никогда не вспоминал жизнь будущую.
Мне даже было не вообразить, кстати, что именно меня будет ждать в будущем. То есть моё воображение работало, конечно, но всё, что оно производило, было будущим из прошлого, и в этом было моё отличие от Аойдэ, потому что мне оставалось незнакомо что-то ещё. Моё будущее оказывалось выстроено из моих собственных воспоминаний, из опыта моего прошлого, из моих ошибок и удач, и оно напоминало моё прошлое, разбитое на мелкие разноцветные стёклышки, помещённые в калейдоскоп моего настоящего. Насколько я понимаю, в какой-то момент перед Мишей развернулось видение такого будущего, которое не зависело ни от какого прошлого, видение такого следствия, которое не исходило бы напрямую из предшествовавшей причины. Возможно, это и было видение Бесконечных Возможностей, после которого одно из бесчисленных существ встало на путь магии. И совершенно точно благодаря этому видению мы сейчас находимся в светлом будущем, в том невероятном мире, где исполняются все желания.
Нельзя сказать, что успех был достигнут с первой попытки. Мы делали множество попыток, и зачастую были на грани отчаяния — все, кроме Эвмелии. Идеи, исходившие от этой персоны, всегда были достаточно экстравагантны, но не всегда работали в точности так, как задумывалось (или же это так выглядело, что должно было стать для нас очередным уроком, наставлением о том, что искусство не сдаваться в любых обстоятельствах состоит в том, чтобы не доводить дело до таких обстоятельств, при которых можно сдаться). И всё-таки жаль, что мы не смогли исполнить Симфонию Растворения, например.
Накрапывал мелкий дождь. В Содоме, штат Манчжурия, мы перекусили в «кошачьем бистро», одном из первых появившихся заведений такого рода по ту сторону океана. Вокруг нас туда-сюда сновали горбуны-аниматоры, одетые в нелепые пижамы с кошачьими ушками и хвостами, потачивая каучуковые когти об столики и потираясь боками об наши штанины. Мы уже готовились отплыть в Винландию на борту «Марии Челесты». Неподалёку от Суртр-Лейк-Сити, у лавового озера, из карбункула и пантарба был высечен громадный амфитеатр, оснащённый устройствами для распыления света, запахов и звука. Они должны были стать заодно и устройствами для распыления времени и пространства. Мои мысли по поводу этого плана? Я думаю, этот план вместе с его провалом на практике должен был показать нам, что для распыления времени и пространства достаточно аппаратуры в самом обычном клубе и самых обычных инструментов. Как только всё начинается, подключить всех остальных — это дело техники. Не так важно даже, куда вы их подключите. Вам будет не до того, чтобы думать об этом.
Исполнению Симфонии Растворения помешала война. Не сказать, чтобы война когда-либо заканчивалась: в весьма правдоподобном метафизическом смысле она была одной из четырёх иллюзий существования (в разработанной на основе этих убеждений колоде Таро Райдера-Уэйтли ей соответствовала масть Псов, наряду с Котами-Учёностью, Обезьянами-Пристрастием и Свиньями-Ремеслом), от неё до известного момента было не избавиться вообще — говорили даже, что на некоторых пластах мира война была повсеместным явлением. У нас же война то вспыхивала, то затихала, то объявлялась невероятно близко, то напоминала о себе лишь толпами беженцев, жадно следящими за тащащим за собой связку обшарпанных вагонов паровозом на какой-нибудь пограничной станции — мы видели их мельком, без интереса полусонно разглядывая усталые лица, ведь мы уставали не меньше в постоянных туровых разъездах, разве что обычно не столь надолго задерживаясь на таможнях и в домиках пограничных служб.
Война — признание бессилия мирской власти. Кое-кто сравнивает войну с попыткой разрубить сложный узел вместо того, чтобы прилагать усилия к тому, чтобы его развязать, но в моём воображении скорее появляется такая картина: согнувшийся над узлом внезапно дёргается и испускает вопль, кидаясь на одного из не ожидавших того зрителей, они бросаются врассыпную, напуганные таким внезапным оборотом событий. Узел на долгое время остаётся забыть.
Но война это мелочи. Это всего лишь бледная тень, которую отбрасывало то, что называлось концом пути, или же иногда концом света. Некоторые говорят, что и учёность, и пристрастия, и ремесло — такие же бледные тени того же. Что до Симфонии Растворения, то она могла быть просто ранним сигналом, что в мыслях нескольких существ конец пути занял исключительно важное место, или необходимой причиной для на первый взгляд не связанного с ней следствия, или очередной невидимой рифмой. Или всем этим одновременно и чем-то ещё. Вернее всего последнее.
Конец пути у меня всегда ассоциировался с трубами, и это неспроста. Один бесноватый иудейский пророк, Инан, живший в Шумере, надолго вписал все виды труб в список сакральных инструментов в Евразии и части Остазии. По некоторым сведениям, ещё он имел пристрастие то ли к аманитам, то ли к эрготу, это среди пророков не редкость — в нашей группе играли и такие пророки.
Однажды, перессорившись со жрецами соседних городков, Инан выдал пламенную диатрибу, в которых обвинял их во всех мыслимых и немыслимых нарушениях законов Думузи: от выпаса овец на недолжных пастбищах до владения большим числом рабов, чем дозволено высшей силой и древними пророками.
Инан будто бы видел гигантов (в три-четыре человеческих роста) из коралла, трубивших в «гибельные роги» из золота; каждый раз гиганты возглашали одно из имён божества, и на землю обрушивались все более и более яростные и высокие волны. Первая волна была волной солёнейшей воды, затем шли волны кипятка, искр, экскрементов, крови, кислоты, расплавленного металла, ядовитых насекомых, острого как нож песка… Конечно, волны обрушивались на прибрежные города, в которых жили противники Инана. (И кстати, именно эти волны впоследствии навели Максвелла на мысль о своём метафизическом демоне, состоящем из волн).
Это был настоящий конец света, правда, пророк не очень любил странствовать и не интересовался внешней географией (ему хватало внутренней), поэтому край света находился недалеко от него, на расстоянии примерно в десятки парс. В этом его история несомненно уступала старым мифам о подземных чудовищах, сотрясавших и раскалывавших целые континенты.
Поначалу шумерские жрецы не придавали большого значения писаниям Инана, попросту объявив его воззрения «малой ересью»: естественно, среди тех, кого Инан клеймил позором, оказались влиятельные люди, и пророк закончил свои дни достаточно плачевно.
Однако со временем, когда сменились несколько поколений царей и шумерское царство вступило в чёрную полосу внутренних неурядиц и внешних поражений, всё больше и больше людей отвращались от беззубых, благостных речей и обращали своё внимание на страстные, захватывающие описания Инана, находя в волнах чужеземцев, теснящих их с земли их отцов и дедов, роковое сходство с волнами божьей кары.
Это Махина стояла за этими появившимися ещё в древние времена историями о «крае света», crying light или kuraesubete. Все эти истории оказались так притягательны, что никто не обратил особого внимания на то, что мир в них постоянно путают с собственным задним двором. Одержимые всех мастей упорно гонятся за их действительным воплощением. Однажды я услышал такое определение: зло — это то, что не остановится ни перед чем, чтобы убедить в своём существовании.
На самом деле Махина была ведома страхом перед бесконечным многообразием жизни, цветущим потоком, который Махина пыталась контролировать, загнать в тесную клетку, свести к безрезультатному щёлканью двухпозиционного переключателя в тёмном чулане. То, что нужно было Махине — это Вечное Возвращение, мир причин и следствий, в котором причина А, породив сколько-то следствий, возвращается благодаря следствию Я, становящемуся причиной для причины А.
И на эту роль помимо прочего претендовал и конец пути. Он должен был стать следствием Я, становящимся причиной для причины А, но не стал. Он должен был стать началом пути, а стал началом нового пути. Много чего пошло совсем не так, как предполагалось: для Юнь, правда, я думаю, всё шло одновременно и как предполагалось, и не так, как предполагалось. Видите, мне довелось провести с предшествующей мне персоной столько времени, что эта специфическая философия стала привычной. Или… чуть более чем философия.
Иногда мне становилось любопытно, что именно происходит в областях того, что могло пойти не так, а в итоге и вовсе не пошло. Тогда из потёртого кейса, облепленного наклейками с названиями тех городов, где мы побывали, появлялось одно из моих сокровищ, планшетка, позволяющая связаться с этими областями. Мои пальцы ложились на планшетку, а мысли пускались наугад. Вскоре передо мной начинали зажигаться кострища результатов: «Лунная соната» Гайдна. «Времена года» Бетховена. «Реквием по мечте» Моцарта, который, бедняга, как сообщила услужливая подсказка, писал его всю ночь, а потом умер (что добавило некоторой интриги в историю безвестного барда эпохи Великой Гуннской Империи), его же «Музыка ангелов» — имелись в виду, видимо, альбионцы. «Волшебная флейта», как сообщалось, шедевр оккультно-музыкальной мысли за авторством некоего Винсента Валентина Баха. Качество звука у планшетки было так себе, а ещё очень часто произведения, названные по-разному, оказывались на поверку одними и теми же. Герберту нравилось предполагать, что авторами или исполнителями этих произведений могли быть мы, он щекотал себе нервы страшным предположением того, что мы и есть эти авторы, обречённые жить в обречённой вселенной, ждущей конца пути, ведущего к началу, и наоборот, и этот конец был неминуемым следствием наших поступков.
Герберт Гесс всегда был странным. Когда-то он был карточным шулером. Сохранил невероятную ловкость рук и после того, как стал музыкантом. Забросить своё прежнее занятие его вынудила цепь событий, которую запустил один случай, произошедший во время очередной карточной дуэли с иностранцем-аристократом Кошкиным, вырвавшимся за пределы своей неласковой отчизны и без удержу кутившим. Князь был под хмельком — достаточно пьян, чтобы проморгать пару малюсеньких жестов, достаточно трезв, чтобы победа над ним не казалось достигнутой обманом. На кону стояла, пожалуй, половина его солидных богатств, но он, как человек благородный, не обращал на это внимания.
Герберт придерживал нужную карту, принцессу червей, в одном из тайников, оборудованных в его пошитом на особый заказ фраке. Дождавшись верного момента, он пустил в ход лёгкое змеиное движение руки, и заветная карта перекочевала в его ладонь, поменявшись местами с мешавшей добиться выигрышной комбинации. Но за его движением будто потянулась вся вселенная, вцепившись в него с неимоверной силой. Краем глаза он видел собственные отражения, множащиеся и уходящие в бесконечность — его ближайшим соседом был грабитель, выламывавший под покровом ночи дверь лавки: не ради добычи, а ради удовольствия раздувать в упорядоченном, окаменевшем мире искры неповиновения, непредсказуемости, нелепиц.
Гесс с огромным трудом поднял взгляд. Лицо оппонента было в своей истинной основе таким же, как полтора часа назад, когда тот клялся Герберту в вечной дружбе и называл добродетельнейшей персоной: ни тени иронии или сомнения. Но вот в самих чертах лица определённо что-то изменилось. От обжигающего взгляда у шулера присутствие духа начало стремительно улетучиваться, и, не дожидаясь, пока оно испарится совершенно, Герберт выложил свои карты на стол. Когда карты легли на сукно, он испытал неимоверное облегчение. Когда карты открыли, он не поверил увиденному. Принцесса червей, карта с изображённой на ней дочерью пустыни с ослепительно синими глазами и кинжалом на поясе, на столе отсутствовала. Вместо неё красовалась шестёрка алмазов с её двумя рядами блестящих геометрических фигур, чего быть попросту не могло: Герберт с такой одержимостью тренировался, что не мог бы допустить в подобном деле промаха.
Но он проиграл. Кое-как отлепившись от праздничного общества, от откланялся и вывалился на залитый мягким светом газовых фонарей проспект, добираясь домой как в бреду: Герберт сел на ночной трамвай, выручавший его уже не раз, но почти пустой трамвай умудрился завезти его кружным путём в незнакомую часть города. На следующий день Герберт препоручил себя заботам врачей — врачей, лечивших помешанных, поместивших его под наблюдение в тихую больницу по соседству с одним из крупных городских храмов. Почти полгода он провёл, пытаясь излечиться под струями воды, принимая отупляющие лекарства, наблюдая скудный больничный быт, выглядевший неуклюжей насмешкой над жизнью за стенами этого заведения.
Он, конечно, не стал рассказывать врачам (почему, вероятно, так быстро и покинул больницу) о том, что столкнулся с дланью Владыки, который явился, чтобы не дать ему совершить неправильный поступок, но хранил уверенность в этом не один год. Хранил, пока, уже после выздоровления, не наткнулся на музыканта-карамболиста, взглянувшего на него знакомым обжигающим взглядом, в котором не было и следа сомнений или насмешки, случайно оказавшись неподалёку от кафе, в котором праздновали чью-то свадьбу — вроде бы свадьбу мелкого чиновника по фамилии Розенкройц или Розенкранц. Притворный дворянин не стал и пытаться утаивать, что подлил в стакан с минеральной водой Гесса маскалин из припрятанного для таких случаев пузырька. Что до удержанного через поверенных Гесса выигрыша, выигрыш со временем оказался просто истрачен — большая часть ушла на одну невероятную штуку, розыгрыш, о котором Гесс даже видел заметку в газете, которую, как водится, пронесли в больничную палату тайком. Подробности подмены карты так и остались тайной, так как чувство солидарности бывшего, но профессионала удержало от расспросов о технике соперника. Что забавно, кстати, этот персонаж, также известный как шевалье д’Ионофф, потом оказался женщиной, правда, Герберт, по-моему, так об этом и не узнал.
Однако в тот момент неожиданной встречи Герберта сильно удивило предложение поменяться жизненными ролями с этим соперником (что было возможно потому, что Герберт сам в детстве учился игре на карамболе). И больше всего Гесс удивил себя сам, приняв это предложение и изменив таким образом свою жизнь навечно.
Мрачные допущения Герберта в итоге сыграли ему на руку, он стал популярным автором беллетристики и породил целую серию книг, названных «Книгами Жюва» (libri di Giove, они пользовались большой популярностью в безбожном Ватикане), в которых жизнь непреклонного стража закона Жюва, поначалу занимавшего высокий пост и пользовавшегося всеобщим уважением, из-за козней неуловимого, меняющего обличья демонического злодея Фантомаса постепенно скатывалась под откос.
Жюв, однако, не терял надежды изловить Фантомаса и предать его справедливому суду, продолжая преследовать призрачного преступника и потеряв своё положение в обществе, и разорвав связи с семьёй (впоследствии вырезанной Фантомасом), и подхватив ужасную для Жюва проказу — болезнь, при которой одна из рук Жюва начала жить своей жизнью и выделывать различные неприятные фокусы в самый неподходящий момент. В последней из книг Фантомас, однако, оказывался аватаром богини порядка Фандоры, созданным лишь чтобы испытать верность Жюва идеалам Мирового Порядка. Богиня проводила незабываемую ночь с Жювом, а затем из её лона заново выходили некогда убитые отпрыски Жюва.
Массовому читателю, конечно, тут бы восхититься примеру Жюва, но массового читателя скорее зачаровывал невероятно удачливый, блистательный Фантомас. И я не могу не улыбнуться, потому что знаю, кому Фантомас был обязан большей частью своей блистательности. Но не своего злодейства.
Большую часть времени злодейство в нашем мире чувствовало себя хорошо, если честно, и ситуация начала значительно изменяться, только когда начало ускоряться время. И если совсем честно, хоть я уже и не удивляюсь своему исцелению от немоты, и я не удивляюсь своей неподвластности смерти, я всё ещё удивляюсь тому, что выбор Билли вообще пал не на злодейство, потому что в моём понимании Бесконечные Возможности должны были включать и его, совершенно естественное в нашем мире. Как бы то ни было, блистательность всегда оставалась на виду.
Когда Якрутпурская Четвёрка выпустила «Обратно в АСУР», пошли пересуды на тему того, что мы и правда летали в АСУР полусекретным рейсом, высадившись на аэродроме где-то посреди ледяной пустыни и сыграв подпольный концерт для горстки асурской продвинутой номенклатуры. Конечно же, эти слухи не соответствовали истине, как и многие другие, в которых упоминалась Четвёрка, вроде того, что настоящий Алма умер, а с нами играет его двойник (через несколько веков сюда приплели ритуальное убийство и корпорацию «Алма»: будто бы это было источником сверхъестественной популярности их приборчиков).
Всё это не могло быть правдой, потому что мы уже давно проживали в АСУР, прикрывшись личинами артистов хора Имени Пламени Кровавого Знамени, в репертуаре которого было около полусотни тысяч песен о палачах, кандалах и возмездии — ради удовольствия послушать эти мрачные песни асуры могли стерпеть нахождение в обществе друг друга и даже не стеснялись ронять жгучие огненные слёзы, подхватывая это зловещее, надрывное гудение. Мы поменялись обличьями с четвёркой молодых асуров, готовых вырваться за пределы своей неласковой отчизны, когда прибыли в один из северных портов, дав команду на всплытие экипажу нашей золочёной подводной лодки.
Это им история обязана всем тем бунтарским экспериментам, которые прославили Четвёрку у тогдашнего молодого поколения: уж в чём-чём, а в бунтах асуры знали толк. Я предпочитаю думать так, а не валить всё на магию Оллин, хотя доподлинно не знает никто. И в блистательности мы были не одни. В конце концов, не всё же ограничивается одной только музыкой! Кто знает, возможно, и жуткие романы Герберта сыграли свою роль.
Например, сражающиеся царства. Конец эпохе сражающихся царств положили кошмаристы (конечно, они не имели никакого отношения к настоящему Кошмару, о котором шла речь ранее). Так их называли в официальных медиа, прибавляя, что деятельность кошмаристских организаций официально запрещена в небе, в море, на земле и под землёй; кошмаристы к тому времени перестали иметь признаки какой-либо организации, став чем-то вроде вездесущей цирковой труппы. Среди них, впрочем, выделялись разные течения. Сразу же на ум, конечно, приходят дадаисты — по имени своего духовного вождя, Шахрияра Дадаева.
Я никогда не забуду тот день, когда по индранету загуляли новости о похищении глав сразу нескольких царств, включая таких, казалось бы, неуязвимых деятелей, как главы Гипербореи, Укбара и Шамбалы. Когда мы узнали о том, что дадаисты подкинули к резиденции маха-атома Шамбалы карлика, который удивительно напоминал владыку внешне и радостно раздавал совершенно безумные приказы охране, паника сменилась ликованием; когда новости о таких же карликах стали приходить из разных уголков мира, ликование стало почти что всеобщим.
Но это было великое событие, а предшествовало ему множество малых. Например, кошмаристы Норнии однажды провели кампанию под названием «дочери Тропина»: рекламщики дряхлого ярла Норнии Велиада Тропина, чтобы хоть чуть-чуть придать дружелюбности его нелепой медиаличине, придумали для него дочерей. Беда была в том, что выживающий из ума Велиад практически сразу же истово поверил, что эти дочери у него есть, и приказал своим спецслужбам сделать всё, чтобы до них не смогли дотянуться руки злоумышленников. Это вызвало к жизни невероятное, химерическое присутствие дочерей Тропина в медиа: периодически с экранов теле-визирей и тепловизоров сообщались новости об их учёбе за границей, благотворительных визитах в больницы и тому подобном, однако личность самих дочерей в этих сообщениях оставалась тайной, вместо них самих на экране появлялись мерцающие облака мозаики (для занимавшихся проектом рекламщиков это, конечно, просто снимало вопрос изображения дочерей).
Это позволило нанести такой удар властям Норнии, которого никто не ожидал: в один прекрасный день по стране молодые девушки начали объявлять, что это именно они — истинные дочери Тропина, которые хотят вернуть своего отца-диктатора на путь истинный. Через несколько дней количество дочерей увеличилось до пяти с половиной сотен, и к ним начали присоединяться и активисты сильного пола, переодевавшиеся в платья. Проблема была в том, что Велиад, узнав эту новость (когда всеми правдами и неправдами до него её донесли), захотел встретиться с потерянными дочерьми: ни во что хорошее для его режима эта встреча не вылилась.
Не менее примечателен был и удар, нанесённый кошмаристами по респектабельной области сетевой порнографии, когда они сумели устроить массовое вторжение художников-перформансистов под видом обычных моделей. Публика, которой приелись однотипные эротические сценарии, с удовольствием начала смотреть вещи вроде балета «Петрушка», где плохо порезанный на момент приготовления салата стебель петрушки застревает в носу у писателя-постмодерниста, который, очевидно, пишет книгу о самом себе, пишущем книгу о самом себе и так далее, и прерывает эту дурную зазеркаленную бесконечность, эту вечную судорогу ума — или вроде перформанса, в ходе которого участники выкладывали собственными телами надпись «REMEMBER ALAMOUT» прямо у стен гераклийского Некрополя.
В тот раз мировое лобби порнографов смогло выиграть, зарегулировав сферу эротического неткама тучей законов, впрочем, триумф был недолгим — потом, с приходом умных голограмм индустрия накрылась медным тазом. Как далеко вы погрузились в воспоминания? И чьи это воспоминания? О прошлом ли, о будущем? Вроде бы речь шла о небольшом клубе с не вызывающим особых восторгом аппаратом, о заурядной группе, которая вдруг разносит на клочки время и пространство и оказывается, что и группа вовсе не группа, и те, кто в зале, вовсе не те, кем они себя воображают. Неужели эта так называемая победа была временной? Откуда взялись эти умные голограммы, если мы с вами сейчас должны быть в так удобно названном настоящем, в том мире, где сбываются все желания, стоп, неужели эти голограммы — тоже часть наших и ваших желаний?
Если сейчас начать представлять себе всё будущее, то мы утонем в подробностях, как в бесконечно разворачивающейся спирали. Разгорится освещающее его пламя, но от этого пламени вырастет и тень. Поющая тень, и, в те моменты, когда мы, разгорячённые, празднуем победу — пляшущая тень.
* * *
Некоторые из девиц из подтанцовки были колдуньями, науалли, и танцевали они всегда в состоянии осознанного сновидения, что бы это ни значило. Объяснения свелись к следующему: эти женщины вообще не находились в прямом смысле слова в нашей реальности, для них наш мир был всего лишь странным сном, в котором, как им казалось, у них была определённая свобода действий. Мне они казались вполне реальными, проверять это из вежливости не хотелось. Из закромов памяти Уна, чтобы лучше дать мне понять, как это работает, была извлечена сочинительница, жившая в Лемурии, которой снилось, что «на самом деле» она живёт в тоталитарном государстве Романии, управляемом тираном Феррисом Ш. Ламонтом, спустя множество эонов. Она в подробностях могла описать городок, в котором будто бы жила, свою якобы семью и друзей, вместе с которыми они исповедовали странную полузапрещённую религию, поклоняясь машине, посылавшей розовые лучи с обратной стороны Луны; розовый луч даже обучил её говорить на наречии будущего. Она почему-то считала свою вторую жизнь под пятой Ламонта настоящей (хотя Маи было известно, что вся эта история с тираном и прочим проскакивала в известном лемурийском фантастическом романе, который сочинительница скорее всего читала). Тут вспомнился ещё и знаменитый бродячий торговец, который не мог понять, коробейник ли он, которому снится скарабей, или скарабей, которому снится, что он коробейник.
Вообще-то попытки воссоздать «Священную Древнюю Романию» продолжались очень долго. Столицы государств переименовывались — официально и не очень — в Романы, так, о бывшем городе Ксанаду говорилось: «Три Романа пали, четвёртый стоит, пятому не бывать вовек». Сейчас мысль о том, что кочевое племя ромов смогло оставить такой значительный след, кажется достаточно абсурдной, но черепомерки, хулаги и газовые каморы тринадцатой, «миллионолунной» Романии (продержавшейся всего пару тысячелуний и развеянной по ветру истории соседней Бабилонией), к сожалению, придают этому абсурду налёт мрачной убедительности. Романтицизм, зародившийся на Материке, через несколько эпох добрался и до далёких островов, где желтокожие племена, уже совсем не похожие на ромов, объявили себя 櫓魔神 (ромадзин, божествами-кормчими), возведя через ромов свою родословную к пришельцам с Пёсьей Звезды. Но мне никак было не вспомнить тоталитарной Романии Ламонта, пока передо мной чьи-то руки раскладывали то, что называется «мерчем». От «мерцания»?
Зато мне вспомнилось, как одно время (и потом, через некоторое время) в группе состоял Астраладдин Абдуласифр, несравненный вор, который мог украсть всё — от девичьего сердца до небесных светил. Астраладдин выкрадывал обратно музыку у Махины, проникая в магрибскую фонотеку, незаметно для её стражей ножом из бараньей лопатки вырезая полотна плёнки и затем с помощью клея из рыбьих голов, смолы можжевельника и тому подобного соединяя их так, чтобы получались новые причудливые, неузнаваемые мелодии. Шах среди воров, он следовал за прохожими в катакомбах Магриба, подбрасывая заново рождённые катушки плёнки в котомки случайных торговцев скотом, пряча их в широких поясах замужних красавиц (при том он умудрялся обманывать без устали бдящих их спутников), закидывая их в туго набитые сумки, навьюченные на спины ишаков.
И меня посетило, возможно, первое раздвоение. Когда пришло время задуматься, а ради чего, собственно, играет группа, всплыл очевидный ответ: ради того, чтобы оставить след в истории. Но вместе с ним всплыл и второй ответ. Все возможные следы уже были оставлены, а мы лишь воспроизводили их. Всё уже записано, инопланетяне Кортеса, низ воспроизводит верх, верх воспроизводит низ. И вся надежда лишь на то, что кто-то собьётся.
И с этой надеждой я смотрю на вас. Срываюсь, меня подхватывает вихрь бессмысленной гонки. Вихрь ожиданий: на меня ежемоментно устремляются жадные глаза, ко мне поворачиваются уши, ждущие рассказов о горящей и говорящей грязи, о кострищах среди кромешной чащи, о плаче по сыгравшему в ящик, о ряженых, стонущих в праздник, когда шутовского царя обезглавливают, о трубном кашле светил, обрушивающихся с неба и закатывающихся в щели в полу святилищ, о жаре, которым пышут площади, переполненные плотью, о толпах пыхающих подростков, завёрнутых в пурпурные тоги, усыпанные блёстками, о вывороченных наизнанку слизняках, о снах божиих, входящих к дочерям человеческим, дождях из золотых монет, очень, впрочем, дурно пахнущих, о расстилающихся бескрайней ширью равнин списках имён живых, мёртвых, спящих, не существующих и никогда не существовавших, написанных разными ядами, среди которых есть и такие, что воспламеняются от человеческого взгляда, выпуская удушливый дым, о зуде и гуле потревоженного улья, на глазах превращающегося в поверженное общество, о неряшливо выписанном и вообще плохо поддающемся описанию страдании, о цивилизациях пришельцев, сожительствующих с паразитами, внушающими иллюзию существования вымышленных миров, за завесой которой потихоньку истлевает реальность, о пересмешниках вселенского масштаба, о слепых полицейских, сующих влажные, шершавые носы в замочные скважины полупрозрачных дверей, вынюхивающих (по вони, которую оставляет крамольный шёпот) заговорщиков, бросивших бомбу в двор-колодец под названием «прошлое», из-за чего из этого названия вывалилась буква «р», о вылинявшем пиджаке Луи-Габриэля Шифера, припорошенном пеплом скрученной из листьев папоротника сигары, и цветке в петлице этого пиджака, то распускавшемся алым цветом, то ронявшем слёзы, с шипением раздирающие вещество воспоминаний, охваченное пожаром запоздалого желания, о двух путешественниках, с недоумением оглядывающихся вокруг и щёлкающих отправляющим их куда-то дальше переключателем, о бронзовых кинжалах, украшенных загадочной вязью, о шуршащей под гладью холодного стекла ряби мёртвого канала, о надувшихся пузырями комиксовых «бабблах», которыми на иных базарах расплачиваются за неосторожный интерес, о взметающихся ввысь мозолистых кулаках, опадающих и превращающихся в нежные пальчики, о душистом и смертоносном паре, сворачивающемся в замысловатым образом продетые друг в друга колечки, с которых стекает желеобразная масса и, дрожа всё медленнее, твердеет и застывает, как струна, потревоженная когтем животного или ящера, зачем-то высунувшимся из прорехи, зияющей между тем, что было и тем, что могло быть, а может, между фальшью и блажью, о жадности и жажде, что подгоняют своими стрекалами еле волочащих ноги охотников за призрачными сокровищами, безнадёжно заплутавших в пустыне или пещере сущего, об одиночестве первопроходцев, за которыми вскоре зарастает тропа, о молодых дикарях, набирающихся мудрости и чудесным образом пресуществляющихся в выживших из ума стариков, о вежливо напоминающей о своих правах смерти, наконец, как бы это ни было абсурдно, каким бы это ни было шулерством или мошенничеством, о глазах смерти, кромешных безднах, пронзаемых падающими звёздами.
У царя Соломемнона, жившего во дворце из слоновой кости и эбенового дерева, был перстень с надписью «всё пройдёт». Особенно уместной эта надпись становилась, когда царь, с кружащейся от ароматов волшебных трав головой, заклинал демонов: Пурпура, Осе, Белшазара и Белзебула, дарителей знаний не от мира сего. Когда царя начинали одолевать приступы страха и он не знал, выдержат ли его магические печати, надпись всегда напоминала ему: это пройдёт. Всё проходит, и это пройдёт.
Вообще-то в определённый момент демоны добрались до него через его дочерей, которых было триста шестьдесят пять. Сначала они пробовали захватывать их тела, но царь в совершенстве владел искусством связывать живых существ, лишь выводя на них пальцем рисунки печатей, так что им пришлось пойти на хитрость и помещать душу то одной, то другой дочери царя в его перстень. Какое-то время им удавалось обманывать царя, но благодаря своей удивительной интуиции он выкрутился из этого положения: собрав всех своих дочерей в одной комнате и надев волшебные очки, позволявшие ему чётко видеть их всех, он произнёс могучее заклинание изгнания, и демоны начали скукоживаться, превращаясь в геометрические узоры и знаки, которые царь затем перенёс на шёлковый ковёр: потом этот ковёр перекочевал в барабан-бочку на одной из студий, где мы репетировали.
В те годы в районе Залива вообще все будто с цепи срывались. Тогда, помню, в моде был «гностический рок», популярность которого обеспечивало свободное хождение пневмы – какого-то побочного продукта химического производства, сильно действующего на психику. Пневму занюхивали через специальные трубочки, не таясь, в грязных клубных туалетах. Пневмой торговали банды бициклеров, наладившие тесные связи с контрабандистами, протаскивавшими её в трюмах кораблей, приплывавших из далёкого Атомска.
Приход от пневмы был особенным. На особом жаргоне пневматиков это называлось «внутренней мистерией», и от этой мистерии в распалённых мозгах молодёжи усердно возводимые цитадели благоразумия начинали лопаться, как мыльные пузыри. Наш тогдашний ротогитарист Робер, начав приторговывать пневмой (что позволило выпустить нам первый альбом на катушках), вскоре на неё крепко подсел и приступил к мировому переделу.
Он прыгал на капоты электромобилей, в которых катили белозубые гандболисты, и когда они, раздосадованные, вылезали наружу, чтобы заявить о своём недовольстве, он, тыкая в их сторону вилкой, объявлял их «паскудными гиликами», после чего завязывалась драка, из которых, впрочем, яростный Робер постоянно выходил победителем. Он почему-то возненавидел зрителей с пышными причёсками и взял за привычку пикировать на них со сцены.
Это всегда происходило, когда он играл соло: сначала он просто злобно косил глазом, не переставая играть, затем его правая рука начинала производить особого рода ритмичное дёрганье, как будто отсчитывая нечто известное ему одному, а затем он с бешеным криком отбрасывал инструмент, разбегался и летел в толпу. Мы никогда не могли предсказать точный момент, когда он сделает это.
Позднее, когда его навещали в больнице, он объяснил, что его всегда преследовала одна и та же галлюцинация: когда он начинал играть соло, среди зрителей будто бы появлялся некто похожий на святого Люминофора как две капли воды и начинал укоризненно смотреть на него, а каждый новый извлечённый из ротогитары звук давался со всё большим трудом; зритель всё смотрел и смотрел, и наконец Робер не выдерживал и, обуянный яростью, прыгал в толпу, чтобы расправиться с ним.
Он начал ненавидеть «кеному»: сложно сказать, что именно объединяло предметы, выделяемые им в этот класс. Мне никогда не удавалось понять, что было кеномой, а что — нет. Критерий определения кеномы постоянно менялся. Иногда он начинал записывать других музыкантов в кеному, и это, как правило, приносило некоторые проблемы. Такие уж это были музыканты.
Я помню Серый Круг, который состоял из ненавистников любых идолов, больше всего они ненавидели творцов и творца (тщательно следя, чтобы в их «музыке» творческое начало сошло на нет: припомнив афоризм про «творца, не бросающего кости», они принялись по древней методе бросать лисьи кости, выводя из получавшихся фигур обороты своих путаных воплей). Они призывали судить Создателя Всей Жизни, приговорив его к жестокой казни за все те муки, которые они претерпевали. Мне представлялось, что если бы таковой существовал, он был бы скорее не бессердечным тираном, а печальным, одиноким в своих эмпиреях неумехой, сотворившим вселенную такой кособокой не из злого умысла, а из-за небольшого опыта обращения с веществом — со вполне добрыми намерениями, воплотить которые в совершенстве не хватило сил. Однако этот творец, допустим, не отчаивался, не исчезал, оставив творение в плачевном состоянии и не пытался представить это плачевное состояние как единственно возможное, а тихо продолжал помаленьку улучшать вселенную.
Для нас реальность очень скоро стала выглядеть совершенно иначе (возможно, тут была ещё и дополнительная ирония, потому что и мы стали выглядеть совершенно иначе для реальности). Впрочем, в плане Йолотли подготовка нас к этому стояла с самого начала. Я помню такие слова: «Зло — просто бессмыслица. Или, вернее, так. Знаешь, в некоторых историях друг главного героя притворяется злодеем, нападающим на девушку, которая главному герою нравится — а затем трусливый главный герой, подстроивший это, якобы побеждает его. Обычно все смеются, когда видят такие истории разыгранными на сцене. Но роль зла именно такова — это обманщик, позволяющий трусу произвести хорошее впечатление. Странно, что очень немногие способны не прекращать смеяться, сталкиваясь с ним и в жизни». Так мы однажды и узнали, что мир, где воплощаются все наши желания, действительно существовал, а тот мир, который мы знали прежде, был скорее был фальшивкой, нарисованным на скорую руку на куске картона абсурдным чудищем.
Призрачное существование Серого Круга, кстати, быстро сошло на нет после того, как «Ротарикон», одна из ведущих групп, развалилась со скандалом и кровью — один из её основателей зарезал другого церемониальным ножом из метеоритного железа, сославшись на то, что учуял в том пагубное дыхание Пангенитора. На суде это ему совершенно не помогло, и он надолго отправился на каторгу. История окутала Серый Круг атмосферой сказки, и эти фанатики влипли в неё, как мухи в янтарь, окончательно превратившись в миф, а затем и в шутку, над которой через некоторое время прекратили даже смеяться.
Вот такие были времена. Всё постоянно менялось, и когда ты проводишь большую часть времени в полудрёме в тряском туровом автобусе, перестаёшь понимать, что именно меняется, и что именно движется к концу. Много чего виделось сквозь сон. Не могли же быть внутренности автобуса одновременно внутренностями исполинского собора, а его окна — витражами, сквозь которые пробивался тусклый свет зари? А ещё — желудками драконов, лабиринтоподобными парками с золочёной оградой, сплетениями труб, в которых постоянно гулял ветер, облачными замками?
Перкуссионисты во время путешествий обожали играть в «истину или дерзание». Они сидели кружком и по очереди заявляли:
— Истина!
— Истина есть интенциональное согласие интеллекта с реальной вещью или соответствие ей.
— Истина!
— Истина есть сверхэмпирическая идея, а также вневременное свойство остальных идей.
— Истина!
— Истина это свобода.
— Истина!
— Я не знаю никаких истин, кроме одной: если кто-то говорит вам, что знает истину, на самом деле он ни черта не знает.
Дерзание, как правило, никто не выбирал, да оно и не требовалось. Что до духовиков, например, то они всегда играли в изобретённую ими игру cadaver ex cubi, для которой требовалось несколько наборов детских кубиков с составными частями изображения на них. Они плодили лис с лапами зайцев, волков с овечьими хвостками, медведей с коровьими головами. Иногда, когда им удавалось заполучить остазиатские игрушки, в дело вступали забавно нарисованные кальмары, осьминоги, пучеглазые и усатые рыбы, длиннотелые драконы. Тогда от кубов (перемешанные теперь картинки с которых наверняка являлись жителям каких-нибудь отделённых тонкой пеленой соседних миров в липких, постыдных снах) начинало веять чем-то более древним, чем мы, извивающимся сквозь холод космоса в вечной бесплодной погоне за собственным хвостом.
И это в туровом автобусе Нидхаль и мысль относительно того, как мы сможем… не пережить конец пути, нет, но не повторять его снова и снова, встретились. Закатное солнце выглядело как подсвеченный розовым неоном изнутри шарик для пинг-понга. Пальцы Джоджо задумчиво прошлись по синтетической вараньей коже переплёта «Анимы и Анонимуса» Фуруи редкого довоенного издания.
* * *
Конечно, нам пришлось заплатить за это. И я до сих пор не знаю, с чьей помощью удалось это совершить, на этот вопрос времени не хватило. Но мы превратились в запись, будто наши бесконечные разъезды были движениями огромного пера, а песни, которые мы играли — переливающимися всеми цветами чернилами. Никто из нас… нет, пусть так: по крайней мере мне не удалось понять, каким именно образом произошли перемены. Но когда они произошли, все это почувствовали. Мы были больше чем просто живые существа, в один момент мы стали такими же, как Лонан, и каждый, кто читал, воспроизводил нас, рисовал нас, видел в нас множащиеся и расцветающие новыми подробностями отражения самого себя.
Были ли мы в буквальном смысле нотами, записью звука? Кто знает. Если представить себе, что двухмерная нотация может разворачиваться, превращаясь в движение и звук, можно представить себе даже, что мы изначально были нотами для существ высшего порядка, придуманными ими же так, как некто однажды придумал ставшую универсальной систему нотной записи.
Этого молодого человека звали Измаил, как и каждого члена этого древнего ордена, но его настоящим именем было Гайсин Карамуртазов. Он обучался на каллиграфа в одном из орденских монастырей где-то на границе Тартарии, и во время одной из бессонных ночей наедине с тушечницей и листом рисовой бумаги к нему, как он позднее рассказывал своему самому верному последователю, пришёл гость. После недолгой беседы с ним Измаил понял, как овладеть особенным движением кисти, «всесжигающим пламенем», и однажды, после месяцев, полных сомнений и страхов, прибег к этому движению, взяв кисть в левую руку. Гайсин смотрел, как вслед за полётом кисти задыхались в своих дворцах самые могучие боги и хохотал, как одержимый.
К утру Карамуртазов оказался убежден, что истребил всех существовавших богов. Он покинул монастырь и основал собственную секту, общество душегубов, основой идеологии которых стало «если богов нет, следовательно, всё позволено». С бесчинствующей сектой, вошедшей в силу, долгое время не могли справиться даже отборные войска правителей. Существовала она дюжину лет, по истечении которых к Гайсину внезапно явился тот же самый гость, после нового разговора с которым Гайсин объявил о роспуске секты (авторитет богоубийцы Карамуртазова был таков, что распустить её в целом удалось без происшествий), сумел он и выторговать себе неприкосновенность, вернувшись в монастырь, из которого некогда ушёл. Доживая свой век, он и изобрёл систему нотации, которой с незначительными изменениями мы все пользовались.
Что до второго разговора с гостем, то относительно его содержания однозначных сведений нет. Некоторые даже говорят, что гость попросту навёл Гайсина на мысль о том, что существование или несуществование богов вообще ничего не меняет в его собственной жизни.
Я не могу вспомнить имя гостя. Впрочем, у меня есть занятия поважнее. Организатор только что подсунул мне листок с расписанием наших выступлений (сегодня играют только лучшие группы мультивселенной), но я не могу понять ничего, что он хотел этим сказать. Время выступлений перечёркнуто и выведено заново, названия групп перечёркнуты и выведены заново. Я смотрю на него, и он виновато ухмыляется. Чтобы взять тайм-аут, мне придётся сбежать в туалет клуба.
Я прохожу по тёмному прокуренному залу и чуть ли не скатываюсь по крутой лестнице. С облегчением вижу, что кабинки не заняты и баррикадируюсь в одной из них. Этого мало, потому что я слышу, как мимо шляются люди, и побаиваюсь того, что кто-то начнёт ломиться в ворота моей крепости. Посмотрев на наручные часы, я с ужасом понимаю, что у меня не осталось никакого контроля над ситуацией: цифры перестали означать что-либо, а скоро то же может произойти и с буквами. Чуть собравшись с силами, я открываю дверь кабинки, выхожу, подхожу к раковине и включаю воду. Мой взгляд непроизвольно падает на холодную гладь зеркала и тут же замирает, уцепившись за неведомо как оказавшуюся передо мной фигуру. И я слышу продолжение беседы, хотя и не помню, где и когда она началась.
— Все склонны говорить себе «я то-то», «я‑то-то». Например, «я аттианка». Или «я пожарный». Но тем самым они ограничивают возможности того, что с ними может случиться. С аттианкой может случиться в основном только то, что может случиться с аттианкой. С пожарным — то, что может случиться с пожарным. А как только этих «я то-то» накапливается слишком много, судьба становится полностью предопределена. Уже не поверить, что что-то в жизни может поменяться.
— Так что же мне говорить себе? Или не говорить?
Удивлённое выражение лица.
— Кое-кто сказал бы тебе, что ты лишь галлюцинация, непрекращающийся бред неких Авана и Иды, раз сорвавших в расходящемся бесконечными тропами саду шипастое яблоко и попробовавших его на вкус. Некоторые считают, что это должно быть идеальным эпиграфом к любой истории. К неудовольствию Авана и Иды, мы не имеем к их истории никакого отношения. У нас есть дело, которое нужно довести до успеха, поэтому думай о себе, как о ком-то, кто участвует в этом деле. Как о голосе самой лучшей группы из всех существовавших в этом мире.
Ясная, открытая улыбка.
— Не думай только слишком сильно, что ты человек. Иногда воображение мешает. Вот кстати о страхах. Ты можешь справляться со страхами точно так же. Каждый страх принадлежит кому-то. Богач боится бедности, живой боится смерти и так далее. Я знал одного мастера, который учил управляться со страхами так: ты постоянно изменяешь представление о себе и соответствующие твоему воображаемому «я» страхи просто не успевают проявиться.
И когда я расстаюсь с зеркалом и наконец поднимаюсь на сцену, страхов не было и нет, есть только звёздный свет. Каждый из вас, из всех женщин и мужчин, существ и призраков, собравшихся в этом зале — одновременно ещё и звезда. И этих звёзд мириады. Их пламенный свет притягивается к нам, и оживляет нас, и сам оживает в звуке.
Я пою. И мы побеждаем. С одной стороны, эта победа даётся нам нелегко, ведь над ней мы работали всю историю. С другой стороны, эта победа даётся нам без кровопролития. Мы просто начинаем играть музыку, вы пляшете, и время рассыпается во все стороны. И сквозь время мы проникаем к вам, покинув свою исковерканную колыбель, и то, что наша колыбель исковеркала в нас, испаряется, истаивает без следа и мы становимся такими же, как вы.
Становимся чем-то ещё.

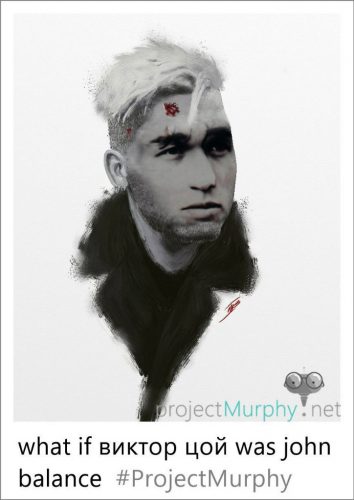

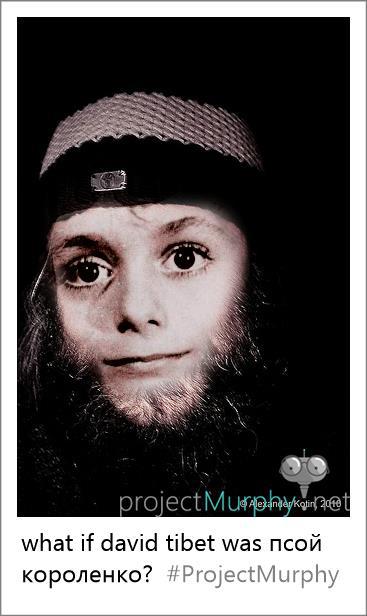

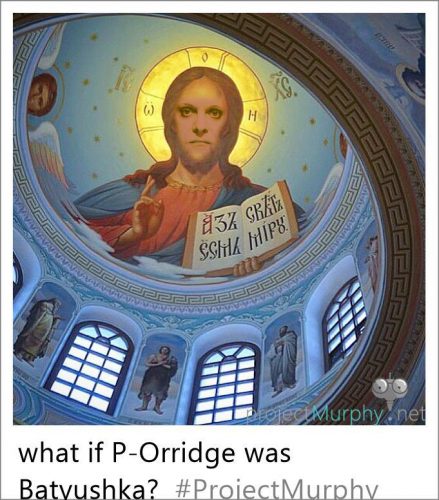



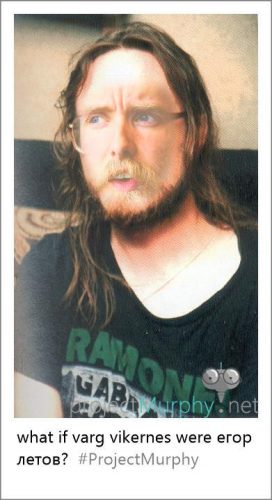
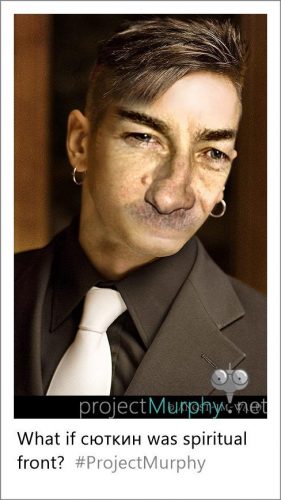
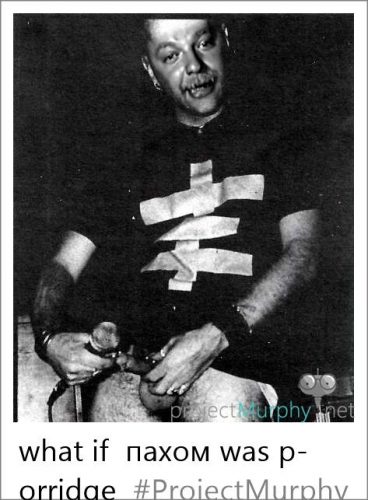
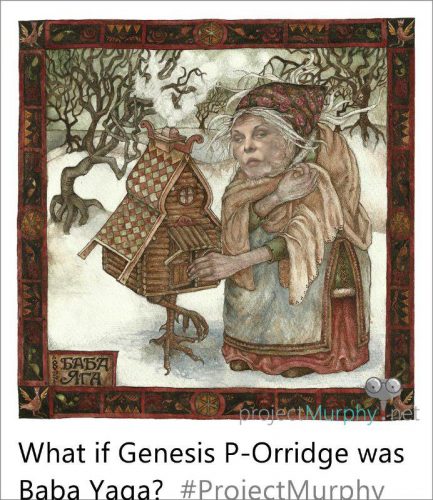

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: