Докладывает полковник p‑zed или получи, фашист, квалиа
Дисклеймер: все использованные ниже термины не претендуют на соответствие их читательской трактовке.
…Куртц развивал ту мысль, что мы, белые, достигшие известной степени развития, «должны казаться им (дикарям) существами сверхъестественными. Мы к ним приходим могущественными, словно боги» – и так далее и так далее. «Тренируя нашу волю, мы можем добиться власти неограниченной и благотворной…» Начиная с этого места он воспарил и прихватил меня с собой. Заключительные фразы были великолепны, но трудно поддавались запоминанию. У нас сохранилось впечатление о мире экзотическом, необъятном, управляемом могущественной благой силой. Я преисполнился энтузиазма. Такова неограниченная власть красноречия – пламенных, благородных слов.
Никакие практические указания не врывались в магический поток фраз, и только в конце последней страницы – видимо, спустя большой промежуток времени – была нацарапана нетвердой рукой заметка, которую можно рассматривать как изложение метода. Она очень проста, и, после трогательного призыва ко всем альтруистическим чувствам, она вас ослепляет и устрашает, как вспышка молнии в ясном небе: «Истребляйте всех скотов!»
Joseph Conrad, 1899
Если бы такого девальвированного разнообразием контекстов употребления и при этом дьявольски востребованного слова, как «фашизм», не существовало, первейшей задачей гуманиста было бы изобрести его, чтобы как глиняным пулеметом помахивать в направлении явлений, о которых пойдет речь.
Даже тем, кто знаком с законом Годвина, зачастую бывает трудно удержаться от соблазна помянуть всуе вышеназванное слово, а заодно и некоего художника-вегетарианца с его ожившей доктриной. В большинстве затяжных словесных баталий присутствует сцена, в которой стороны, исчерпав аргументы, начинают с пеной у рта клеймить друг друга словом «фашист» безотносительно аксиологических установок и предпочтений оппонента. Часто в перепалку вклинивается сноб с замечанием, что слово употребляется некорректно, поскольку «фашизм – это [подставьте любое словарное значение], но никак не произвольная система взглядов, конфликтующая с твоей собственной». Вклинивается – и не находит даже тени того понимания, которое существует в этот момент между закидывающими друг друга фекалиями сторонами; больше того – вызывает у них вспышку священного недоумения.
Нет, когда накал страстей спадет, оппоненты, отсыпь им Богиня хоть щепотку критического мышления, сами признают, что в академическом смысле фашизм – это действительно довольно узкий термин: то ли общее название крайне правых политических течений, ориентированных на этатизм, то ли массовое политическое движение, возникшее в Италии в 20‑х… Что признаки фашизма уже лет двадцать как перечислены Эко в его эссе и, что, если повнимательнее присмотреться практически к любому государству, хоть что-нибудь из этого перечня там можно при желании обнаружить…
Однако зуд, требующий произносить слово вновь и вновь, лишь усиливается, поскольку растиражированность следов, оставленных в культуре известными историческими событиями, привела к гиперинфляции термина и создала спрос на его употребление в пугающем и зыбком контексте, засасывающем, как вихрь Хастура, хотя при других обстоятельствах на его месте легко мог оказаться практически любой другой “изм”.
Для рационального ума «фашизм» является обычным словом и, как и все остальные слова, имеет определенный набор значений, зависящих от того, на что хочет указать использующий его субъект. Почему же тогда именно это слово используется как мощнейший оператор, риторическая вундервафля, которую принято произносить с придыханием и которая должна вызывать у собеседников строго определенные реакции, жестко запрограммированные предыдущим дискурсивным опытом? Первый ответ, который приходит в голову: обыденное сознание несет отпечаток «магического мышления», в которой слово не столько указывает на наблюдаемое явление, сколько создает его. То есть, если назвать кого-то фашистом, у него сразу вырастут рога, клыки и копыта. Но о чем на самом деле пытаются сообщить, докричаться те, кто использует это слово? Давайте разбираться по порядку.
I
«Очень немногие понимают, что их жизнь, самая сущность их характера, их способностей и дерзаний — являются лишь выражением их веры в надежность окружающей обстановки. Мужество, хладнокровие, уверенность, эмоции, принципы, каждая великая и каждая ничтожная мысль принадлежат не отдельной личности, но массе — массе, которая слепо верит в несокрушимую силу своих учреждений и своей морали, в могущество своей полиции и своих мнений. Но соприкосновение с подлинным, ничем не смягченным варварством, с первобытной природой и примитивным человеком вселяет в сердца внезапную и глубокую тревогу. К чувству одиночества, к отчетливому представлению об оторванности своих мыслей и своих ощущений, к отрицанию всего привычного и надежного присоединяется утверждение необычного и грозящего опасностью, представление о вещах неясных, отталкивающих и не поддающихся контролю; это волнующее вторжение возбуждает воображение, терзает цивилизованные нервы и глупых и мудрых».
Joseph Conrad, 1898
Фашизм как социально-политическая система имеет тенденцию к крайнему этатизму, предельному подчинению всех когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций субъектов, входящих в эту систему, интересам государства. При этом государство само начинает мыслиться как интегральный субъект, плод коллективного делегирования своего индивидуального ума и свободной воли политическим механизмам, которые позволяют некой искусственно созданной общности непротиворечиво заявлять о себе через символическую фигуру фюрера, бога-императора и т. д. Очевидно, что эта конструкция находится в состоянии непрерывной борьбы с проявлениями чужой субъектности, которые могут войти в противоречие с ее интересами, для чего культивирует внутри себя образы внутреннего и внешнего врага.
Теперь сделаем шаг вперед и вниз, спустившись с уровня социально-политических систем, чья субъектность скорее метафорична, на уровень индивидуального существования.
На этом уровне фашизм – в пределе – это состояние субъекта, в котором основным вектором его психической активности является стремление остаться или утвердиться единственным субъектом в наблюдаемой им реальности.
Вопрос, означает ли это стремление стать Богом или, если угодно, Демиургом, оставим за скобками.
Причина такого состояния заключается в страхе перед непредсказуемостью явлений наблюдаемого мира из-за активности других субъектов. Неопределенность пугает нас, поскольку требует затрачивать больше ресурсов на обработку информации и принятие решений, что делает более энергозатратным удовлетворение потребностей разного уровня.
Мы постараемся не углубляться в тонкости определения размытой категории Другого, актуализировавшейся в результате переосмысления роли языка в современной философии, поэтому ограничимся цитатой из Википедии:
“Другой – это не Я, тот, кто противостоит мне, находится по ту сторону меня, моих ценностей, моего мировоззрения. И вместе с тем, Другой такой же, как Я: он мыслит, чувствует, ходит и т. д.”
Неопределенность, сложность прогнозирования реакций, в том числе обратной связи, можно назвать первым из двух ключевых признаков, по которым мы отличаем субъект от объекта. Чем более предсказуема реакция какого-либо явления в ответ на наши действия, тем меньше мы стремимся искать внутри этого явления имплицитную, скрытую сущность, наблюдающую нас и в свою очередь пытающуюся прогнозировать наши действия. При этом у неопределенности есть верхний порог, за которым поведение начинает восприниматься как хаотичное, «случайное», исключающее наличие «разумного замысла» или просто настолько чуждое, что само слово «субъектность» в приложении к нему теряет смысл. Расстояние между верхней и нижней границей неопределенности является тем семантическим окном, через которое мы либо видим объект, либо субъект – этого пресловутого Другого. Расстояние это варьируется от личности к личности, к тому же в самом окне у большинства людей можно обнаружить слепые пятна, где Другой по формальным признакам кажется оценивающему настолько непохожим на него самого, что представляется непредсказуемым по определению.
Для установления различия между субъектом и объектом нам приходится вступать с ним в коммуникацию, позволяющую установить уровень неопределенности реакций. Взаимодействием, которое помогло бы не только оценить уровень неопределенности поведения какого-либо явления, но и субъективно снизить его не за счет разложения явления на более простые элементы, а за счет его усложнения в результате частичного присоединения к нему, по сути, является коммуникация, которая может быть формально определена как взаимодействие, сознательно ориентированное на смысловое восприятие его актов его участниками. И именно возможность коммуникации можно назвать вторым ключевым признаком субъекта. Можно ли всерьез подозревать наличие субъекта-наблюдателя внутри кардиограммы «Форекса»? Скорее всего, нет, потому что невозможна коммуникация, к тому же в случае признания этого частокола из японских свечей субъектным потеряется техническая возможность прогнозирования.
Сужение вышеназванного окна, а также неумение адекватно пользоваться коммуникативными инструментами увеличивает риск страха перед слишком сложными, плохо прогнозируемыми явлениями. Скованное таким страхом сознание часто совершает трагическую ошибку, пытаясь снизить неопределенность этих явлений до комфортного уровня, познать их, не вступая в коммуникацию, не испытывая «присоединения» к ним, но, напротив, разбирая их на элементы.
Сущетвует такое достаточно широко распростнаенное понятие как “объективация”, первоначально использовавшееся сугубо в эпистемологии и философии в качестве характеристики наделения чего-либо внешней, объективной формой существования. Объективация трактовалась как акт производимый по отношению к чему-то субъективному, психическому, либо к некой внутренней, скрытой сущности. Однако со временем изначально нейтральный термин приобрел негативные коннотации и все чаще стал описывать игнорирование чьих-то эмоций, умозаключений, а иногда и всего человека целиком в результате отказа признавать его право распоряжаться своей жизнью. Так, например, в правозащитном дискурсе часто всплывает понятие «сексуальной объективации», являющееся центральным для некоторых направлений феминизма и т. д. Именно такая трактовка этого термина делает его удобным для раскрытия разницы между субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями.
Насильственно-редукционистский подход к познанию Другого, которым характеризуется объективация, сводит понимание проявлений своей или чужой субъектности к возможности построения идеального прогноза относительно поведения наблюдаемой сущности, а следовательно, его подконтрольности. Безусловно, экзистенциальный ужас смягчается, когда очередной элемент бытия становится доступен для манипуляций.
Но объективировать самого себя можно до бесконечности – не существует такого психического явления, которое нельзя было бы до бесконечности раскладывать на наборы каких-то более локальных процессов. При этом всегда будет оставаться что-то еще – недоступная в непосредственном опыте субъектность, по сути та самая способность к наблюдению, актуальный для бессчетного количества духовных систем вопрос: «кто смотрит изнутри меня?».
Те же из Других, кого почему-то не получается объективировать целиком, с благословения отдохнувшего и окрепшего экзистенциального ужаса зачастую физически раскладываются на более простые элементы вроде мыла и пуговиц, чье поведение проще предсказать – и так до бесконечности, до той черты, за которой данная в ощущениях вселенная, переживаемая уже скорее как болезненный сон, разлетается вдребезги.
II
Важно, что редукционизм вне исторического фашистского контекста с его традиционализмом, blut-und-boden-ideologie и т. д. автору этих строк доводилось по косвенным признакам замечать не только у сторонников зарегулированных систем, но и у людей, называющих себе анархистами, гностиками, буддистами и многими другими, иногда как метафору, а иногда и как буквальную трактовку окончательного решения какого бы то ни было вопроса, включая вопрос окончательного освобождения.
«Только черные дыры и субатомные частицы остались в космосе… последняя черная дыра испарилась, с этого момента вселенная состоит только из фотонов, нейтрино, электронов и позитронов, никак не взаимодействующих друг с другом». Тепловая смерть как высшая форма блаженства и освобождения.
Скорее всего, большая часть апокалиптических грез имеет под собой ту же природу: в желании «покончив с собой, уничтожить весь мир», объект желания и способ легко подменяют друг друга.
Нам видится в этом проявление некоего паранойяльного отчаяния перед всемогущей инстанцией Демиурга-фашиста, контролирующего всю вселенную, нуждающуюся в освобождении путем разрушения. При этом освобождение от власти этой инстанции обнаруживается в прямо противоположном, если осознать, что контроль не существует нигде, кроме нас, вернее – определенной части нас, с которой мы вольны либо отождествляться, либо не отождествляться. Отказ замечать контроль ведет к отождествлению с той своей частью, для которой контроля не существует.
«Чтобы бороться со смертью, нужно стать мёртвым. Если борьба с Империей означает заражение имперским безумием, единственный способ по-настоящему победить Империю – это забыть, кто ты есть, и добровольно сесть в Чёрную Железную Тюрьму. Изнутри кажется, что Империя вечна и непобедима. Фокус в том, что ты не только внутри этой клетки. Ты ещё и снаружи».
В противном случае сознание попадает в ловушку ложного отождествления с жертвой этой системы и в конце концов начинает копировать ее разрушительные паттерны там, где можно было бы ответить: «идите нахуй».
Когда речь заходит о Черной Железной Тюрьме, стоит задуматься о той хитрой двухтактной механике, связывающей сознание набором бинарных оппозиций, первейшая из которых состоит в идее разделения некоего абсолюта на субъект и объект. На самом же деле любая попытка разграничить их обречена на провал, поскольку, как уже говорилось выше, можно до бесконечности объективировать отдельные контуры своей психики, но из самого определения объекта будет вытекать существование субъекта, осуществляющего объективацию, причем субъект не локализован ни в чем, «субъект, наблюдающий сам себя», – с одной стороны, исключительно языковой вывих в духе парадоксов Эшера или Магритт, с другой, в каком-то очень странном, практически уилберовском смысле, – весь абсолют. И большая часть духовных практик разного рода, направленных на освобождение от Черной Железной Тюрьмы, в первую очередь возвращают нашей божественной сущности память о том, как говорить «му», “unask the question” вместо выбора между большинством великих дихотомий. К сожалению, человеческое сознание к этому практически не приспособлено: из-за своей языковой структуры оно вынуждено томиться в условиях, которые лучше всего передает название одного старого фантастического рассказа: «I have no mouth, and I must scream».
Апофеоз глубинного отчаяния, сопутствующего попыткам говорить о том, о чем следует молчать, персонифицируется в герое Конрада, столь густо цитируемого нами сегодня, – успевшем стать архетипом полковнике Курце, воплощающем встречу «бремени белого человека» с первобытной тьмой – изнаночным близнецом этого бремени. В экранизации Копполы, в дополнение к первоисточнику вооруженного историей XX века, измотанный, истощенный, бог-император Курц, несомненно, одержим солипсистской идеей (попробуйте подобрать слова, чтобы опровергнуть его режущие по живому речи, ага), однако она не способна полностью утолить его. Абсолютная диктатура оказывается просто попыткой отгородиться от каких-то страшных теней, берущих начало в самом полковнике. Результат – спутанные размышления о вечности насилия, вечности Империи; жутковатые декламации о сверхчеловеке. Мечты об армии предельно профессиональной, по мановению руки способной объективировать все и вся: при необходимости пытать и калечить чужих детей, но по возвращении домой сохранять безмятежность, не испытывать никакого посттравматического синдрома, любить жену, учить детей идеалам гуманизма. «Делать то, что необходимо», не транслируя никакого травматического опыта в будущее, потому что Х поломанных жизней рационально лучше, чем Х + Y. Околдованный таким вполне искренним пониманием психической гигиены, Курц вообще не задумывается о том, что усилия, направляемые на создание такого сверхчеловека, можно было бы направить, если уж оставаться идеалистами, на то, чтобы в мире не было войн.
Отдельные сентиментальные мысли пролетают через сознание Курца, как нейтрино, ни с чем уже не способные вступить во взаимодействие, и последняя запись, которую оставляет в фильме полковник, звучит как «DROP THE BOMB. EXTERMINATE THEM ALL!» после чего, как всякое божество, подстраивает собственное жертвоприношение. Скорее всего, подразумевается атомное оружие. Идите на свет, полковник. Идите на свет.
Таким образом, стремление остаться единственным субъектом в наблюдаемой реальности, атрибутируемое нами фашизму, является как причиной, так и следствием способа познания мира, направленного на то, чтобы снизить непредсказуемость путем редукции и уничтожения ее источника как цельной сущности.
Иными словами, фашизм – это познание (иллюзия познания?..) посредством уничтожения познаваемого.
Где-то поблизости плещется идея о том, что за последние века из мира исчезла магия, так как структура познавательных механизмов большинства людей более не позволяет заподозрить наличие магической (скрытой от непосредственных ощущений) сущности-субъекта в электрической цепи, стволе дерева или других материальных объектах. Но последнее имеет крайне опосредованное отношение к фашизму даже в том смысле, в котором его понимаем мы.
Пора делать следующий шаг. Имеет ли какое-то отношение к фашизму вопрос о том, в каком смысле наблюдаемая сущность является или не является человеком?
III
В популярном интервью Курехин соглашается с утверждением, приписываемом Андре Глюксману: де «в основе фашизма лежит сам человеческий факт». Но что тогда, спросим мы, лежит в основе человеческого факта?
Итак, мы охарактеризовали фашизм как материализованную борьбу со страхом перед непредсказуемостью мира, в ходе которой цель смещается с борьбы со страхом внутри себя на уничтожение источника непредсказуемости вовне. Главным источником этой неопределенности мы назвали существование других субъектов и поделились некоторыми мыслями по поводу механизмов объективации.
В описаниях фашистского поведения часто прослеживается такой паттерн: “Какой-то человек (или группа людей) декларативно считают, что другой человек (или группа людей) не является человеком (или группой людей), на основании чего первый(е) осуществляют над последним(и) действия, игнорируя обратную связь того же уровня, т. е. обращается(ются) с ним(и) не как с субъектом(ами), а как с объектом(ами)”. В соседних высказываниях можно разглядеть как утверждение о том, что фашизм является идеологией этого «расчеловечивания», так и о том, что ее апологеты-фашисты – сами не вполне люди.
При этом за редкими исключениями последние десятилетия никто не спорит, что тот, кому отказывают в человечности, является представителем вида homo sapiens в антропологическом смысле. Наиболее мощным оказывается не биологическое основание, а что-то иное, плохо поддающееся определению. Поэтому мы считаем, что речь идет о субъектности/ее отсутствии («низком качестве», «примитивности», если допускается не дискретная, а континуальная трактовка субъектности/объектности).
Но как, через какие внешние признаки, доступные в опыте, эта субъектность кому-то либо атрибутируется, либо нет? Как мы уже говорили, существует некое «окно» восприятия – диапазон между полной предсказуемостью и непредсказуемостью реакций, внутри которого явления мыслятся нами как участники коммуникации.
Попытки соотнести и осмыслить явления, стоящие за понятиями «человек», «субъект», «сознание», предпринимаемые на стыке философии, психологии, кибернетики и еще дюжины научных и оккультных областей, зачастую приводят к смысловой путанице: «ладно, чтобы никого не обижать и не прослыть фашистами, согласимся, что все люди – субъекты. Означает ли это, что все субъекты – люди? Вот, например, дельфины… Говорить, что у дельфинов нет сознания – это тоже фашизм или нет?»
Поскольку содержание сознания и самоощущение другого человека не даны нам непосредственно, мы называем кого-то человеком в силу возможности коммуникации с ним и ощущения взаимопонимания как приблизительно разделенной картины мира. Непонимание языковой природы самосознания и поиск объективных ответов на вопросы: «Так что же такое чужая субъектность на самом деле? Как понять наверняка, есть она или нет? Вдруг мне кажется, что она есть, а на самом деле я заблуждаюсь… нет, еще раз, как оно все-таки устроено-то? А у дельфинов?», – без целительного воздействия Коржибского с Витгенштейном приводит бесконечные вереницы взбесившихся сознаний к логическим гримасам, напоминающим классику:
«Собаку Лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в ООН пришло письмо от группы женщин из штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к собакам в СССР и выдвинули предложение: если для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, в нашем городе для этого есть сколько угодно негритят».
Что интересно, за все те годы, которые мы периодически натыкаемся на этот исторический анекдот, мы так и не удосужились выяснить, действительно ли подобное письмо имело место или история является пропагандой того, какие они там «тупыыыыыые», однако неизменные комментарии в духе: «Да пиндосы вообще не люди! Таких тварей надо распинать, а их Миссисипи залить напалмом!»,– вероятно, следует благодарить за то, что мы в конце концов взялись за этот текст.
Эти разговоры слепых с глухими еще не являются фашизмом, несмотря на то, что, будучи подкрепленными логическими и риторическими искажениями типа ошибок квантификации или ложных дилемм, делают первые шажки в его сторону.

Однако вернемся к соотношению субъектности и коммуникации. Как сказано выше, человек – это тот, кого мы согласны считать таковым, а согласие это дается самому себе в результате коммуникации, в ходе которой получаемая нами обратная связь комплементарна нашей собственной. Поскольку прокоммуницировать с каждым существом на планете нельзя просто в силу пространственно-временных ограничений, доказательством, что это возможно теоретически, назначается сама логика коммуникативных процессов. А взаимодействует с В, и в его голове тот проходит автоматический «тест Тьюринга». Когда В заговаривает о своем опыте взаимодействия с С, который никогда не был дан в ощущениях А, у А не возникает сомнений в том, что С также является человеком и обладает субъектностью, потому что иначе это заметил бы В.
Но насколько мы уверены в субъектности Другого как таковой? Чтобы ответить на этот вопрос для себя, попробуйте принять 400 мкг ЛСД (или даже не принимайте, просто с ЛСД все становится интереснее) и долго смотреть в глаза другому человеку, анализируя, по каким маркерам вы понимаете, что перед вами не синтетический манекен, не зеркало, а что-то живое. Попытайтесь построить прогноз относительно его самых простых стохастических реакций – вы получите зеркальный коридор, колодец рекурсии, отсветы которого можно обнаружить в некоторых экспериментах, посвященных исследованию когнитивного бессознательного, а именно – особенностям неосознаваемого взаимодействия человеческих тел в пространстве.
Наверняка все хотя бы раз попадали в такую ситуацию: во время движения вы внезапно замечали идущего на вас человека и несколько секунд вместе метались из стороны в сторону, пытаясь разминуться. Причем нет потребности что-то сказать, вступить в контакт с мешающим вашему движению телом – есть только попытка угадать (на самом деле – посчитать), с какой стороны его удастся обойти.
Скорее всего, эти прыжки из стороны в сторону и обоюдный ступор, которыми они сопровождаются, связаны с тем, что каждый человек в своих перемещениях изначально пользуется бессознательной навигацией, которая рассчитывает траектории движения чужих тел по механическим законам. Иными словами, каждый человек по умолчанию неосознанно полагает, что движения всех наблюдаемых явлений, включая тела других людей, предопределены и их можно рассчитать, а столкновение происходит в результате нашей собственной ошибки в расчетах. То, что в этих телах сходным образом может обрабатываться информация, которая оказывает влияние на их движение, но которую невозможно учесть, бессознательные механизмы попросту игнорируют. В результате, когда казавшееся предопределенным вдоль и поперек тело начинает демонстрировать признаки сомнения (является непредсказуемым для самого себя, не знает заранее, куда оно повернет), отзеркаливающие наши собственные, возникает именно тот коридор коммуникативных отражений.
Возможно, именно в том, что мы не прикладываем принцип детерминизма к себе в силу понимания своей субъектности (точнее, можем приложить ко всем реакциям, которые смогли объективировать), но неосознанно прикладываем его ко всему остальному, кроются некоторые причины, позволяющие страху неопределенности трансформироваться в фашистский образ мысли.
Приближаясь к концу этого размышления, заметим, что мы не считаем, что между естественной ксенофобией и фашизмом уместно ставить знак равенства. Многие проявления ксенофобии естественны в том смысле, что частично являются врожденными, частично приобретенными в ходе первичной социализации, однако фашизм – отнюдь не набор инстинктивных реакций из древнейших отделов головного мозга, а их собранная из слов надстройка, ментальный вирус, оформившийся только в XX веке. Фашизм на индивидуальном уровне – это, во-первых, быстрый и легкий отказ считать какую-то сущность, группу или все человечество субъектами на основании какого-то формального признака, способствующего иллюзии невозможности коммуникации. Во-вторых – действия, направленные на устранение этих сущностей.
Это тот самый поэтический дракон, запрограммированный возрождаться в процессе поедания своей предыдущей формы: нетрудно заметить, что кричащий, будто его со всех сторон обступили фашисты, выродки и нелюди, которых надо сжигать, сам демонстрирует тот же паттерн. Отсюда вытекает парадокс «нетерпимости по отношению к нетерпимым» со всеми его коммуникативными фракталами, в которых часто вязнут правозащитники разного толка. Причем речь может идти как об объективации тех, кого они защищают, до вздохов о том, как хорошо было бы всем хорошим людям собраться вместе и перестрелять всех плохих, а потом при необходимости повторить, потом повторить еще раз… здесь чудится недоговариваемое «а на энной итерации нас останется двое, и ружье, конечно же, будет в моих руках» – мы вернулись к солипсизму и одиночеству, как ваши дела, полковник?
И только отказ от мышления в этих насильственных категориях власти, контроля, вечности противостояни, последней битвы “за все хорошее против всего плохого” может помочь выбраться из этого канцерогенного водоворота и способствовать высокой реализации сознания.
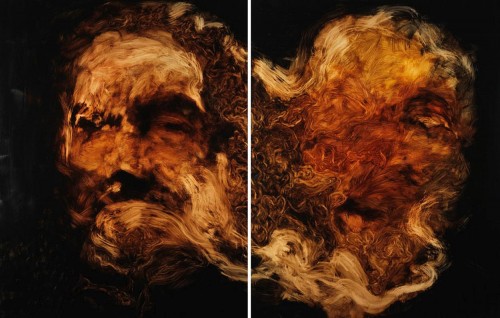


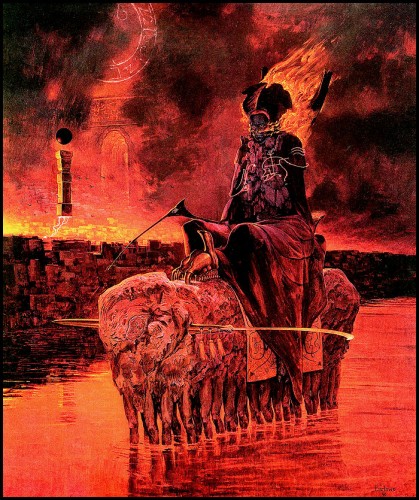



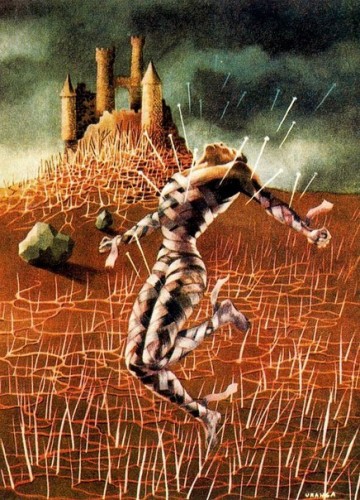




Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: