Наука Лотреамона
Подарок всем тонким ценителям французской кислотной философии и не очень тонким фанатам повести «Македонская критика…». Впервые опубликованная в 1967‑м (ДА ЛАДНО?) длинная нажористая текстовая телега разгоняется медленно и грузно, зато когда набирает обороты, тут уже никого не пощадит, и ты, дорогой читатель, почувствуешь себя преображенным или как минимум судорожно отряхнешься, промолвив «фу блять…фу нахуй…», и в голосе твоем при этом будет звенеть потаенный кимвал восторга.
Главное условие игры – читать медленно и внимательно, с наслаждением, пристально следя за мыслью автора и пытаясь, по мере наличия душевных сил, ей сопереживать. Если совсем невмоготу (но не раньше середины опуса!) рекомендуется применить следующий хинт: смотреть на всю страницу расфокусированным взглядом одновременно, как если бы буквы составляли не предложения, но своеобразную мандалу. В этой мандале вы выделяете и мало-помалу начинаете созерцать змеящийся вниз по направлению нормального чтения ручеек букв – это ползет червячок мысли ебанувшегося автора текста, ползет, многомудро продолжая беседовать с самим собой, и с «Я», и с «Противо‑Я» и с «Das Sein», и с текстуальным пространством Мальдорора-трансгрессора, и с санитарами, наверное, тоже. следите за червячком. он приведет вас к неведомому Гугону.
Адам Т
Автор текста – Филипп Соллерс
Перевод – А. Гараджи
«Это продолжающееся издание не имеет цены»
Текст Лотреамона медленно, но теперь уже, кажется, верно внедряется в пространство нового, с большим трудом дающегося способа чтения, и это, несомненно, — одно из решающих явлений истории в ее подспудном течении. Правда, когда в начале XX века Ан-дре Бретон писал: «Я думаю, что для современных людей литература все больше превращается в некий мощный механизм, который с успехом заменит им старые способы мышления», он относил свои слова именно к этому тексту, причем как раз вскоре после открытия «Стихотворений». Однако для сюрреалистов Лотреамон всегда оставался лишь поводом для словоизвержения, фигурой, на которую ссылаются тем настойчивее, чем менее проблематичной она выглядит, он оставался для них выразительной тенью, мифом, под прикрытием которого увековечивается хаотическое смешение лирики, морали и психологии.
Трудно не признать, что мы все более удаляемся от этого метафизического пафоса, а его отголоски становятся все глуше и отрывистее. Что же до механизма в собственном смысле слова, то сюрреалисты почти ничего не сказали относительно его целостного функционирования, ограничившись описанием отдельных эффектов. М.Плейне вскрыл беспомощность такого подхода, который, вследствие своеобразного риторического миметизма, попадается в ловушку языка, лишенного всякой определенности.
Говорить о Лотреамоне декларативными фразами, строить предположения относительно того, кем мог быть автор, скрывшийся под этим псевдонимом, наделять «Песни Мальдорора» и «Стихотворения» неким «смыслом» — все это означает держаться старого способа чтения, которое радикально трансформируется с появлением неведомого прежде письма, и это появление сопоставимо с изобретением нового языка: чтобы говорить на таком языке, его нужно сначала выучить. Он формируется как бы за пределами того конкретного языка, в лоне которого функционирует, но при этом, не затрагивая очевидных проявлений языка-восприемника, все же способен убить этот последний, возведя его во вторую степень эффективности; это своего рода «полый» язык, и его очевидная цель — покончить с репрезентацией, со знаком, с понятием, без которых, по всей видимости, наша культура неспособна помыслить языковую реальность. Текст, стало быть, неприступен, то есть обречен играть роль «иероглифа», признака и, самое забавное, проективного теста — что, кстати, и случилось на деле.
Существует лишь одна работа, не затронутая атмосферой этого всеобщего ослепления, — «Лотреамон и Сад» Мориса Бланшо. Автор, по крайней мере, признает проблему чтения и связанный с нею риск: » Неотвратимость изменения, при котором слова — уже и не слова, и не вещи, этими словами обозначаемые, и даже не значение, но нечто иное, раз и навсегда иное, — эта неотвратимость настолько серьезна, что чтение «Маль-дорора» превращается в предвкушение и оттого — в переживание такого изменения». Между тем прочтение, предложенное самим Бланшо, не в силах ускользнуть от псевдопротиворечия «Мальдорор»/«Стихотворе-ния»; иными словами, умея подступиться к строению «Песней», оно, однако, так и не выходит за рамки их репрезентативного строя («образ», «тема», «мотив»); следуя идеалистической схеме, оно стремится добраться до «истинного смысла», до «высшего и окончательного значения» произведения, зная, что они недосягаемы. Признак эссенциалистского прочтения в том, что оно всегда (даже отступая в область «безличного») вынуждено обеспечить себя: 1. автором (некоей индивидуальной судьбой); 2. непротиворечивым текстом; 3. эффектом истинности. Бланшо, таким образом, принимает расхожее представление о «Стихотворениях» как об «отступничестве» и сравнивает его с «ренегатством» Рембо, чей опыт (эта мысль не выдерживает критики) «более методичен, теоретичен и доброволен», нежели дюкассовский. Дюкасс якобы вернулся в «Стихотворениях» к «ясному классическому взгляду».
Очевидно, что Бланшо, как и все прочие читатели Лотреа-мона, пусть даже и завороженные его талантом, совершенно не представлял себе, как следует понимать «Стихотворения». Самому Бланшо ближе гёльдерли-новские «страсть к дневному» и мотив возвращения в детство; этим он усугубляет мифологизирующую эксплуатацию таких понятий, как «поэтическое» и «изначальное», которая благодаря Хайдеггеру привела к катастрофическому результату — к сокрытию под маской «бытия языка» того, что ныне надлежит помыслить как нечто буквальное. Лотреамон (правильнее было бы во всех случаях говорить «Дюкасс», указывая тем самым причину, побуждающую наши библиотеки числить этот феномен по разряду художественной литературы), сама физическая реальность, частью которой является это имя, не поддается никакому сравнению.
Считать, что это образчик «поэтического опыта», — все равно, что при расшифровке нефонетического текста принимать фразы за картинки. Тем самым для нас сразу же становится невозможной любая наука; правда, слово «наука» обладает здесь таким статусом и значением, которые не установлены и установлению не подлежат, оставаясь недоступными для любой унаследованной от прошлого традиции преподавания. Ныне, однако, настало время отклониться от традиционного по своей сути знания, которое чурается как потрясений, вызываемых игрой письма, так и их последствий. Настало время наметить в общих чертах ту науку, которую Дер-рида определяет как «науку о возможности науки… науку о «произвольности знака», науку о ничем не мотивированном следе, науку о письме, предшествующем речи внутри самой речи», которая должна привести нас к исследованию скрытого, нелинейного и многомерного пространства”.
Один из первых результатов текстового подхода к «Песням» и «Стихотворениям» (подхода, с превосходной ясностью осуществленного Марселеном Плей-не) состоит в привлечении внимания к вопросу об имени. Этот вопрос был диалектически поставлен самим Дюкассом, причем таким способом, который до сих пор оставался незамеченным. Однако о комплексе «Песни»/«Стихотворения» невозможно будет сказать чего-либо до тех пор, пока мы не обратим внимания не переход от псевдонима к имени, от имени иносказательного — к имени собственному, на их взаимное уничтожение, раскрывающее связь вымысла и осмысления этого вымысла. Производимое здесь действие не может быть сведено к простой хронологической — диахронической — схеме: «отступничество», противоречие и т. п. Приняв этот тип толкования, мы никогда не избавимся от психологической фантасмагории. Однако именно эта фантасмагория как раз и отражает существующую в нашем обществе и в нашей культуре практику письма, где имя всегда выступает в качестве какой-то внетекстовой опоры для объекта, именуемого «книгой» и якобы содержащего в себе репрезентативный или концептуальный текст. Мы читаем лишь то, что написано в данном томе (объеме) чьей-то рукой, но отнюдь не сам этот объем и не ту акцентировку, которая делает возможыми появление и исчезновение этого «кого-то». Очевидно, однако, что именно эту систему и подрывает Дюкасс, как бы давая сценическое воплощение всему им написанному, вовлекая в эту постановку не только свои письма, но и обе свои (по-разному подписанные) публикации, не только стирая любые биографические следы (факт, в котором не следует видеть одну лишь историческую случайность), но и выворачивая наизнанку любой материал (законы такого выворачивания он первым и установил). Таким образом, Плейне прав, когда — имея в виду переход от Лотреамона к Дюкассу и от «Песней», рассмотренных в аспекте трансгрессии, к «Стихотворениям», которые «задним числом» (но это «заднее число» следует воспринимать скорее в пространственных, нежели временных категориях) наводят на мысль о законе трансгрессии, — говорит следующее: «Псевдоним позволил имени собственному получить иной референт, нежели отцовство. Принимая псевдоним, Дюкасс становится сыном собственных произведений». Эту фразу следует понимать буквально: она говорит об акте деторождения, совершающемся внутри письма и с помощью письма, внутри и с помощью того продуманного практического действия, которое мы и собираемся разъяснить.
Плейне пишет далее: «В той мере, в какой Лотреамон, на протяжении всего своего произведения, был не чем иным, как воплощением собственного письма, это последнее оказывается насквозь биографическим — биографическим уже не в пространстве говорения (того, что оно говорит), но в пределах жестовой параболы собственного движения». Однако в данном случае био-графичность нужно понимать негативно, поскольку речь идет о полной аннигиляции биографического дискурса, о том, чтобы вписать то или иное имя в линейную историю, ибо всякая биография есть не что иное, как эффект (исторического) дискурса, который должен рассматриваться как некий иной дискурс. Таким образом, в той системе, которую мы собираемся выделить в письме Дюкасса, одним из существенных моментов является интеграция смерти биографического субъекта, причем речь идет не только о смерти субъекта высказывания-результата, но и о смерти субъекта высказывания-процесса, позволяющей обнаружить явление, которое правильнее всего было бы назвать танатогра-фией: «Я пишу эти строки на смертном одре»/«Я знаю, мне суждено сгинуть навеки».
Подобная система решительно ставит под вопрос навязчивое представление о субъекте в той мере, в какой это представление связывается с эффектом словоохотливого языка: проводить, следуя лингвистическому образцу, различие между субъектом высказывания-результата и субъектом высказывания-процесса значит оставаться в метафизическом пространстве речи; и та неспособность подступиться к «литературе», которую обнаруживает, к примеру, теория Фрейда, обусловлена именно этой ограниченностью устной речи. На деле практика письма со всей очевидностью раскрывает не двойственность пары высказывание-результат/высказывание-процесс, но (путем специфического сдвига, смещения и нарушения симметрии) высказанность высказывания высказанного (Гёпопсё de Tenonciation de Гёпопсё), или инфинитизацию высказываний-результатов, или, поскольку глагол «высказывать» слишком тесно связан с представлением о речевой фразе, общую деконструкцию высказывания (desenonciation), еще и еще раз подтверждающую отсутствие всякого субъекта (и уже тем более — всякой проблематики воображаемого и фантазма, равно как и истины)».
Подобно тому как текст не разделяется на явный и скрытый планы, на сущность и видимость, а значит, не может рассматриваться как раздвоившееся выражение некоего единства (каковое всегда бывает только речевым единством), — точно так же он не порождается и в пространстве между автором и читателем, между отправителем и получателем. Текст есть «объем», и нам надлежит исследовать этот обьем и то пространство (обьем включается здесь в пространство), практическая функция которого есть не что иное, как функция негативного языка, «подвижной негативной сетки», предстающей, в плане чтения, как эффект двойного порождения — следа и его расшифровки, отслеживания; это процесс, не имеющий ни начала, ни конца, охватывающий не только само знание, но и его речевое выражение, не только тело, но и его пол, не только реальное, но и его метафорическое воплощение, не только повествование, но и его «осознанные» границы, короче, всю совокупность культуры в любой данный момент. Таким образом, мы можем сказать, что этот текст, считающийся обычно патологическим и невразумительным (мы уже начинаем понимать, почему), есть не что иное, как окутывание одного пространства другим пространством, его тканевая изнанка, где место бинарного, основанного на принципе измеримости, мышления занимает мышление дуальное, реализующееся лишь в терминах движения, многоярусности, прерывности и мутации.
Итак, перед нами, с одной стороны, культура, определяемая неким речевым кодом, а с другой — механизм, позволяющий дать ей выпуклое изображение (так, например, для Эмпедокла и Лукреция речь идет о том, чтобы встать лицом к лицу с сакральностью и мифоло-гичностью, для Данте — с богом и символом, для Сада—с разумом и знаком, для Дюкасса — со смыслом и структурой как последними воплощениями теологического мышления). Для нас проблема состоит в том, чтобы понять, как работает такой «механизм», когда приходит в непосредственное соприкосновение с различными проявлениями этой культуры.
Нам следует обратить внимание на тот способ, каким «Песни» и «Стихотворения» заходят в тыл риторике и повествованию, силлогизму и морали, гуманизму и романтизму, — способ, каким в открывшемся тем самым пространстве используются феномены, ныне именуемые «бессознательным» и «формальной логикой». В самом деле, Дю-касс предлагает нам не столько истолкование и прочтение своего текста или тех текстов, которыми он воспользовался, непрерывно интегрируя их в свой собственный, сколько безостановочную смену текста, превращение текстового процесса в такую практику, которая вырастает и управляется из недр некоей активной пустоты. Это письмо, таким образом, производится под и между письмом и языком; оно вбирает в себя, контролирует, скрывает и раскрывает любые их проявления, и это «под-писывание» (Плейне), или полиграфическая «разбивка» (Деррида) должны предстать — в плане языка — в форме заимствований, неустойчивых сочленений и швов, чередующихся в таком ритме, что предметом чтения оказывается уровень расстановки акцентов, уровень разрывов и трансформаций»*.
В самом деле, в этом процессе негативного и подчеркивающего удвоения нам нужно понять, каким образом письмо (функционируя в чужом для него пространстве, куда оно вторгается, словно молчаливый насильник) обеспечивает себя множеством алиби, псевдонимов и подставных образов, создавая целый «мир», произвольность которого, тем не менее, оно разоблачает с неутомимой энергией. Мы увидим, к примеру, что, в процессе такого взлома, сравнение, эллипс и, говоря более обобщенно, «максима» оказываются своего рода болевыми, стратегическими точками, где принцип отрицания действует согласно логике обратимости.
Плейне пишет: «Лотреамоновские псевдодуальности вступают в игру лишь в точках их негативного сочленения. Все амбивалентные образования, начиная с понятий добра и зла, крепятся к шарниру отрицания (ни добро, ни зло), высвечиваются в двойном фокусе обращенности и тождественности».
Эти предварительные замечания небесполезны, если мы хотим точно выяснить, до какой степени «Песни» и «Стихотворения» разлагают понятие «бессознательного» и «истории», — разлагают так, что произведению Дюкасса можно было бы дать подзаголовок: «от текста бессознательного к тексту истории», подчеркнув тем самым, что этот «выход» текста за рамки любого субъекта и любой «психики» открывает нам доступ к беспрецедентной практике истории (по сравнению с которой то, что понималось под «историей» прежде, становится своего рода предысторией). Что же касается «бессознательного», то можно заметить, что само это понятие было с необходимостью порождено редукционистским определением языка и его логики. Суть проблемы увидел Бенвенист”, обнаруживший ин-фра- или супралингвистический статус тех «неразложимых», «предельно конденсированных» знаков, которые в «организованном языке» соответствуют «скорее крупным, нежели минимальным, единицам дискурса» и между которыми «устанавливается динамическое отношение интенциональности», причем мотивированность играет здесь каузальную роль.
Если вспомнить, что предложение «содержит знаки, но само не является знаком» («предложение — образование неопределенное, неограниченно варьирующееся; это сама жизнь языка в действии»), то можно сказать, что предложение есть та единообразная форма, которую принимает неопределенное пространство письма, как только оно проявляется в языке, — подобно тому как эллипс есть наиболее подходящий риторический или геометрический образ его движения. Вот почему «бессознательное», в «сновидении» пользующееся иероглифическим письмом (которое, между прочим, явственно напоминает письмо «литературное»), в речевой фонической культуре можно, в сущности, определить как желание, испытываемое речью к письму.
Письмо не знает, что такое отрицание и противоречие, оно функционирует согласно соотносительному, аналогическому принципу, сгущается и смещается в движении постоянного изглаживания; таковы симптомы письма как реального объекта, превращающегося (с помощью языка как определенной системы координат) в предмет знания. Эту реальность, однако, правильнее назвать не инфра- или супралинг-вистической (подобная терминология предполагает акт исключения, что вряд ли оправданно), но транслингвистической. Равным образом, рассматривая пространство письма как трансфинитное, мы можем сказать, что именно благодаря этой трансфинитности письмо неустанно порождает, обрабатывает, упорядочивает и преодолевает любую структуру, а значит, и любой «смысл».
Именно за счет этого холостого, «возвратного» движения письмо выводит из равновесия язык голоса; этот язык инвертируется в письме, обретает в нем свои границы, свою среду, действие которой сводится исключительно к эффектам негации. Письмо, таким образом, есть не что иное, как сплошное закавычивание языка. По отношению к тексту, внутри текста, язык превращается в одну большую цитату. Удваиваясь, письмо цитирует само себя, собственную историю, продукты собственной деятельности, цитирует все прочие языки, в тайном сродстве с которыми оно находится. В известном смысле можно сказать, что «текст» знает языки в их совокупности (это, однако, не означает, что он не должен им учиться) в той мере, в какой сам он есть «вне-язычье», то есть находится в пространстве между языками.
Текст читает «человека в языке» — так, словно «человек» является неким устройством для чтения-письма, а текстовое устройство, со своей стороны, обладает способностью перераспределять любые языковые эффекты и их инвертированные транскрипции, обнаруживать утверждение в отрицании, принимать «часть» за «целое», представлять бесконечность с помощью серии меток, короче, совершать — исполняя замысел «Стихотворений» — переход от феномена к законам. Речь идет о том, чтобы позаимствовать у математики или забрать у нее назад тот фундаментальный способ счисления, который подвергается ограничениям и маскировке при орализованном определении письма. Об этом «Песни Мальдорора» и «Стихотворения» также свидетельствуют вполне определенно.
Что же касается «истории», то поскольку линеарная модель подвергается сомнению и включается в многомерный текст, поскольку отрицание, осуществляемое письмом, приводит к возникновению такой периодизации, которая предполагает специализацию времени и взаимообмен языков и текстов, — постольку опыт истории (по сравнению с тем, что воспринималось в качестве такового в эпоху господства индивидуальной речи) заметно расширяется и меняет параметры, приобретает полновесность, монументальность, невиданную доселе сложность и разнообразие. Пока письмо рассматривалось с точки зрения речи, оно умалялось и отвергалось как некое «зло»; отныне же оно предстает как воплощенная история — как «чреда веков», как «будущая книга», «продолжающееся издание» и «нерушимая нить безличной поэзии». Ниже мы увидим, почему в «Стихотворениях» могла появиться следующая фраза: «От имени плаксивого человечества, от его собственного имени, возможно, даже вопреки его желанию, я, покоряясь необходимости, с несгибаемой волей и железным упорством, отрекаюсь от его гнусного прошлого».
Читатель — вот, по всей видимости, главный персонаж «Мальдорора» (заглавие, в котором Плейне научил нас видеть «зоревое зло» — mal d’aurore). Однако следует заметить, что введение в текст функции чтения не предполагает соотнесенности этого текста с каким-то внеположным ему читателем, но, напротив, указывает на тот непрерывный процесс, в результате которого производится текст и его фигуранты (скриптор, читатель). «Песни» — это прежде всего некая психография в том смысле, в каком, например, можно говорить о психагогии Эмпе-докла, то есть о процессе, приводящем к катабасису, который, подчиняясь тщательно выверенному драматургическому плану и оставаясь в русле повествования, должен всесторонне вскрыть принудительный и произвольный характер как этого русла, так и этого повествования. Текст отправляется на поиски организма (говорящего человека), не имеющего представления о тексте, и требует, чтобы тот обрел мужество «на мгновение стать столь же свирепым, как и то, о чем он читает»». Этот призыв, разумеется, обращен к самому процессу письма, которое, таким образом, сразу же обретает диалектическую связь со своим иным, и это «иное», совершая ответное усилие, пишется как бы с конца, тем самым опережая текст и прокладывая ему дорогу. В результате схема производства приобретает следующий вид:
Недетерминированный (многомерный) текст (письмо) -> читатель -> скриптор -> записанный (линейный) текст (язык).
Если прочитать эту схему с конца, то мы войдем в соприкосновение с текстовым процессом, сказывающимся объектом собственного говорения, и получим возможность ориентироваться в нем. Это вопрос о «жизни» и «смерти», и неслучайно текстовой процесс обретает вид и функцию исцеления, способного к последующей рефлексии относительно собственных условий — условий установления нового закона, новой логики и диалектического соотношения между запретом и трансгрессией. Во всяком случае, первое конкретное слово текста — путь, чьи корни восходят к санскритскому panthah, по поводу которого Бенвенист замечает: » Panthah — это не просто дорога как пространство, покрываемое при перемещении из одной точки в другую. Он предполагает трудности, неизвестность и опасности, непредвиденные обходы, он может меняться в зависимости от путника, да и пролегает, к тому же, не только по земле: у птиц тоже свой panthah, у рек — свой.
Стало быть, panthah не намечается заранее и не протаптывается все время. Скорее, это попытка «пересечь» неведомую и зачастую недружелюбную область, маршрут, избираемый птицами в воздушном пространстве, в общем — путь по запретной для обычного прохода области, средство миновать опасную или пересеченную, труднопроходимую местность. Едва ли необходимо подчеркивать непосредственно сексуальный аспект этого путепроходства, этого пути, который должен проториваться в пространстве универсальной сцены трансгресии (отсюда — внезапное появление «материнского лица» — образа, принадлежащего матричному языку; и не следует «отворачиваться» от него, нужно снова атаковать его через отцовскую инстанцию имени) — совокупность «анормальных» линий, заповедный маршрут, который философические птицы («журавли») не смеют до конца прочертить в небесах («возможно, это треугольник, образуемый в пространстве занятными перелетными птицами, но третьей стороны не видно»), хотя их продвижение вперед (ниже это уже «скворцы») аналогично тому, которое нарушает и расстраивает линейное движение языка: «Дай бог, чтобы читатель, в ком эти песни разбудят дерзость, в чьей груди хоть на миг вспыхнет бушующее в них пламя зла, — дай бог, чтобы он не заблудился в погибельной трясине мрачных, сочащихся ядом страниц, чтобы смог он найти неторную, извилистую тропу сквозь дебри; ибо чтение сей книги требует постоянного напряжения ума, вооруженного суровой логикой вкупе с трезвым сомнением, иначе смертоносные испарения пропитают душу, как вода пропитывает сахар».
Вот что с самого начала говорит текст о еще не написанных «страницах» и о читателе-скрипторе этих страниц, еще не возникших и не проложивших своего пути, окутанных ночным мраком и призванных вылечить зло злом, изобрести противоядие от «смертноносных испарений». Связывая воедино проблематику письма, пола и их взаимоотношений, торя себе проход и преодолевая подавляющую власть языка, линии и «смысла» («добра»), текст пользуется «героическим» оператором, который одновременно есть пиктографическое имя, указывающее на совершаемую работу (Мальдорор), и некое пересечение логических антиномий (Мальдорор предстает человеком с губами из серы и яшмы, беглым каторжником, цивилизованным дикарем и т. п.).
Об этой массированной атаке на все, что придерживается благомыслящей линии, линии горизонта, со стороны которого поднимается текстовая буря, на чтение, не желающее быть письмом (на речевую логику репрезентации), открыто заявляется с самого начала: «Теперь скажу несколько слов о том, как добр был Мальдорор в первые безоблачные годы своей жизни, — вот эти слова уже и сказаны. Но вскоре он заметил, что по некоей фатальной прихоти судьбы был создан злым» («Вот и теперь он повторяет это свое признание на бумаге, и перо дрожит в его руке!»). И еще одно место из «Песней»: «…я открою (все-таки открою!) тебе эту тайну не раньше, чем в самом конце твоей жизни, когда на смертном одре ты поведешь ученый диспут с подступающей агонией… а может быть, в конце этой строфы».
Едва ли можно удачнее выразить тот факт, что линия отныне не воспринимается как регулятор-ный принцип: в эллипсе, сфокусированном на читателе и скрипторе и вписывающемся отныне в линию, текстом правит иная инстанция — «жестокость»: производимые ею сдвиги увлекают в «бесконечность», они отрицают все, чего требует линейное построение, — условность логического следования временной последовательности изложения, соответствующего репрезентативной картине мира, которую задает разум, с почтением относящийся к требованиям показного реализма (вот почему «светящийся червь» вдруг становится «величиною с дом», а волос бога, несколько ниже, превращается в болтливый и суетливый шест). Жестокий текст разоблачает «человека» — того, кто приемлет все, что о нем говорится, того, кто не в состоянии написать: «Если верить тому, что мне говорили, я — сын мужчины и женщины». Взаимозамена местоимений (свидетельствующая о том, что письмо с равной легкостью пользуется любыми языковыми позициями), чередование глагольных времен в предложении — все это колеблет и разрушает принцип линейности, выполняет «дезориентирующую» функцию («точка зрения» становится своего рода пространством), между тем как противоречия («она так хороша, не правда ль, поскольку не имеет вкуса») и скользящие аналогии (имеющие целью максимально обыграть лексический пласт, продемонстрировав его замкнутость по сравнению с необъятной изнанкой) вводят текст в область множественности, где, однако, отсутствует беспорядок, в область безостановочного движения (лай собак, соотносимый со слонами, с голодным ребенком, с раненой кошкой, с женщиной в родовых схватках, с человеком, умирающим от чумы, с поющей девушкой, появляется ради его противопоставленности звездам и всем четырем сторонам света, луне, горам, холодному воздуху, ночному безмолвию, лягушкам, вору, змеям, собачьему лаю, жабам, паукам, воронам, скалам, корабельным огням, волнам, рыбам, человеку).
Метафорическое сгущение и метонимическое смещение (классические оси координат; сразу же достигают здесь предела функционирования и обратимости, точки насыщения, что свидетельствует о переходе к другой системе, чреватой бесконечными метаморфозами и разрывами, чье движение можно остановить только с помощью знаков препинания. Любое выражение принимает здесь значение графического символа, вписанного, затем стертого и по-новому записанного в некоей сфере, свободной, по всей видимости, от противоречий.
Эта сфера неподвластна ни одной из наук, основанных на принципе линейности, и у нее есть «имя» (одно из многих: океан, под которым мы сразу же будем понимать текст: «Тебя не обозреть единым взором. Лишь обращая телескоп на все четыре стороны поочередно, земное зрение способно охватить твою поверхность; так математик, прежде чем решить многоступенчатое уравнение, рассматривает его по частям и после сводит результаты». Именно этот «океанический» (не ведающий, что такое знаки и обладающий «нравственным величием по образу бесконечности») текст объясняет «сердце человеческое» лучше всякой речевой идеологии «человека» («человек говорит «да», а думает «нет»/«психологам предстоит еще немало открытий…»). Вот, стало быть, каков этот «магический и страшный» текст, разливающийся на лингвистической линии «океаном», сам себя «осознающий» и катящий вперед свои фразы-волны: «Они теснятся друг за другом параллельными грядами. Едва откатится одна, как ей на смену уже растет другая…»
В этом движении происходит и рождение и уничтожение, оно и записывает, и стирает записанное, и раскрывает, и утаивает от всякого, кто вздумал ему ввериться, оно требует полной отдачи и полного исчезновения: «Помой скорее руки и поспеши туда, где ждет тебя ночлег…»; вот почему это движение не имеет ни конца, ни начала, разве что с точки зрения «видимости явлений» («Порой логично положиться на видимость явлений, а коли так, то первая песнь подошла здесь к концу»). Будучи основан на принципе произвольности и одновременно подрывая его, текст уже самой этой произвольностью заявляет, что он произвольно избирает не только собственный конец, но и собственное начало. И когда набегает новая текстовая волна, все, чем текст был прежде (на предыдущей странице), становится чем-то далеким, канувшим в прошлое, словно давно позабытые слова: каждое новое начало становится все более категоричным, текст «пускается в путь» ко все более определенной цели, и цель эта в том, чтобы оставить по себе лишь отпечатки, множество следов, хотя и «поддающихся прочтению», но самому тексту уже не нужных: он стремится изжить все, что утверждал прежде о себе самом, — изжить прямо здесь, в этом языке, начиная с первого же слова.
Текстовая бесконечность, которую надлежит пропеть (ибо «прочтению она не поддается»), «раскаляет добела» страницы, на которые ей удается прорваться (язык при этом выполняет функцию сопротивления); она проникает в «черные бездны и тайные извилины душ», и эти души не в силах ей сопротивляться, поскольку она-то их и порождает; она растождествляет говорящего субъекта за счет своей противоречивой самотождественности и, раскидывая «тенета зловещей прозорливости», создает науку об этом субъекте («Научно доказано только одно: с тех пор человек, узрев свой жабий лик, не узнает себя…»).
Эта бесконечность есть также тот «алмазный меч», который разом срывает покровы и с «человека», и с его «филантропических тирад» (которыми, «как песком, до отказа набиты сочиненные людьми книги — порою я сам, признаться, хотя и вопреки рассудку, не прочь ими потешиться: они были бы уморительно смешны, когда бы от них не делалось так тошно. Иного Мальдорор не ждал. Фронтон бумажного святилища из дряхлых фолиантов украшен изваянием Добродетели, — но это зыбкое убежище»). Прикрывшись маской «зоревого зла», он «бьет без промаха». Однако ему приходится вступить в бой с противописьмом, которое есть не что иное, как обожествленный язык, когда «человек» воображает себя порождением того или иного «бога» (то есть узурпатора-нетекста, выдающего себя за всемогущего и вечного отца). Противописьмо пытается наделить текстового актера плотью: это и «длинный сернистый шрам», и «огромный рубец, след пытки, память о которой уже поглотила бездна времен», и давление органического (социального, культурного, доисторического) начала, препятствующего осуществлению функции письма, заключающийся в том, чтобы «квадратные уста извергали потоки яда».
«Но что это? Как только принимаюсь за работу, немеют пальцы. А я хочу писать… Не получается… Но говорю же, я хочу, я желаю записать свои мысли. Таков естественный закон, и я, как каждый смертный, имею право следовать ему». Акт письма — рискованный акт, не только высвобождающий весь сонм природных явлений — молнии, бурю, ливень, гром, но и подсказывающий диалектический ответ — возможность хаоса, несущего месть и кастрацию, готового изувечить всякого, кто, подобно «каждому смертному», решился погрузиться в него, всякого, кто желает быть просто «всяким» — субъектом воли, способным законодательствовать в тексте и заявить: «А вот поди ж ты…» Сам материальный акт письма (писание на определенной поверхности, определенным инструментом, в языке) есть лишь образ, например, образ «разящего жала с тремя платиновыми остриями, которое природа дала мне взамен языка».
В какой-то момент язык (и его производное — говорящий субъект) и испытывают потребность укрыться в «хрупком панцире» так называемого творца, пребывающего вне системы, полагающего, что всякое начало коренится в бесконечности внетекстового пространства, потребность найти опору в некоей маргинальной, неподвижной функции, которую нужно, вооружившись «стальным хлыстом» (письмом), заставить «вертеться волчком». Язык следует разить иронией, причем делать это «твердой и холодной рукой», что как раз и позволяет изгнать из него тот мертвый груз, в который превратилось человеческое тело: «мощно рванув, раскрутить тебя за ноги, точно пращу, и со всего размаху швырнуть в стену». А ведь и вправду, «настало время пустить в ход самые мощные рычаги и самые ученые козни», чтобы «как можно шире охватить горизонт настоящего времени».
Нет ничего случайного в том, что в «Песнях» одобрительно упоминаются логика, океан, гермафродит (пол) и математика, а неодобрительно — человек, философия, бог и речь. «Мне рассказывали, что я родился на свет глухим… Правда, говорить меня научили, хотя и с большим трудом; но чтобы понять собеседника, я должен был прочитать то, что он напишет мне на бумаге, и только тогда мог ответить». «Я уже давно зарекся вступать в беседу с человеком. А каждый, кто приблизится ко мне, пусть онемеет, пусть ссохнутся его голосовые связки, пусть не тщится он превзойти соловья, и пусть не смеет изливать предо мною душу в словах».
Вошь (священник, философ), та «малая живность», которую «люди кормят даром», — вот кто является эксплуататором человеческой речи и сообщником «грязи», символизируя невозможность избавиться от телесной инаковости, от карикатурности. Равным образом и «Бог» есть тот, кто «пожирает» все, что его создало так, словно он сам все это создал. Достаточно «поднять глаза», и можно увидеть ту кровавую сцену, которая исторгает вопль, возвращает голос, слух и дар слова (побуждает петь вопреки речи, звучащей в письме). Это трансфеноменальное, трансязыковое (но не трансцендентное) движение становится возможным благодаря математике, к источнику которой, более древнему, чем «солнце» («Стихотворения»: «Наука, которой я занимаюсь, это наука, отличная от поэзии. Я не воспеваю поэзию. Я силюсь обнаружить ее источник»), мы инстинктивно тянемся с самой «колыбели».
«Прежде мой ум застилала подобная густому туману пелена, но когда одну за другой я одолел все ступени, ведущие к твоему алтарю, ты порвала эту завесу, как морской ветер разметает в разные стороны стаю чернокрылых альбатросов. А взамен ты даровала мне ледяную трезвость, мудрую рассудительность и несокрушимую логику». Так текст может стать «невозмутимым зрителем»: он позволяет растаять «фигурным линиям», чтобы насытиться «начертанными на огненных скрижалях, исполненными тайного значения и дышащими самостийной жизнью фигурами и знаками», которые сами суть не что иное, как «вечносущие аксиомы и заповедные символы, те, что существовали до начала мига и пребудут неизменными после его конца».
Математическое письмо, точнее, письмо, которое — в пределах языка и вопреки ему — позволяет реализоваться нумерологической мысли, — это единственное письмо, способное воплотить противоречивую самотождественность океанического текста: «Твои простые пирамиды переживут пирамиды египетские, эти гигантские муравейники, памятники рабства и невежества. И когда настанет конец всех времен… лишь твои кабалистические числа, скупые уравнения и скульптурные линии устоят и займут подобающее им место одесную Предвечного Судии». В битве, которую письмо ведет против линейного человека (равно как и против «творца», сотворенного его «малодушием»), математика оказывается «грозным союзником» — грозным благодаря своей логике и своим «силлогизмам», чей «запутанный лабиринт на самом деле есть кратчайший путь к истине». Она позволяет нанести человеку удар, после которого не встать».
Нанести подобный удар значит подорвать суеверия говорящего человека, его страхи и верования, конкретно доказать ему, что все это — не более как результат его редукции к репрезентативной линии. Текст приобретает способность наблюдать за собственными родовыми схватками, за тем, как «друг за другом вытекают из бездонного влагалища ночи чудовищные сперматозоиды» (и далее: «Пора, пожалуй, мне несколько умерить воображение и сделать передышку, подобно тому как, бывает, замрешь вдруг посреди любовных утех, вперившись взором в женское лоно»); он уже умеет овладевать падшим текстом, текстом, низвергшимся в пучину того самого языка, который обладает обожествляющей силой и загромождает анналы безличной стихии всевозможными «постыдными сплетнями»: работа по инфи-нитизации это работа по восстановлению текста (она предшествует его стиранию), и она более не требует, чтобы этот текст был произведением чьей-либо индивидуальной («человеческой») головы: «В зловонном потоке блевотины, извергшейся из пасти крокодила, он сам не волен изменить ни слова». Даже нож гильотины не в состоянии отсечь вместилище мысли, которая защищает организм письма, ибо дает ему оружие, позволяющее бороться против сознания (сознание, подобно «бессознательному», — еще один продукт репрезентативной, унифицирующей линии) и его «гордыни». А значит, дает возможность более хладнокровно — с текстовой точки зрения — взглянуть на нашу «гнусную планету», на этот «горшок в шипах и зазубринах, где ерзает в мучительных потугах голый зад человека-какаду».
«Порожденные фантазией» существа, чьи имена песнь письма извлекает из самых глубин «мозга», возникают на белой странице, «озаренные внутренним сиянием». «Едва появившись на свет, они гаснут, как искры, что пробегают по краю обгоревшей бумаги и исчезают прежде, нежели глаз успеет уследить за ними». Работа расширяющегося текста, текста, поглощающего языковую репрезентацию, должна выглядеть как некое спонтанное порождение, когда на горизонте появляются какие-то призрачные, зыбкие силуэты; их затухающие следы успевают остаться на экране линейности, а затем они вновь погружаются в хаос, вызывая к жизни другие эфемерные «субстанции», и эти субстанции не только служат источником силы, пронизывающей собою все целое, не только разоблачают различные верования, насильно вторгаясь в принадлежащее им пространство, но и обнаруживают сложность и подвижность бесконечности, когда часть, причем на совершенно законных основаниях, то и дело выступает вместо целого: это «неистовая любовь, которая… в голодном раже… пожрала бы сама себя, когда б не находила пищи в волшебных миражах; настанет время — она наплодит целый сонм эфирных духов, которых будет больше, чем микроскопических тварей в капле воды и которые плотным кольцом завихрятся вокруг нее».
Так из тела, изуродованного противописьмом (из тела, «получившего дар жизни, как удар кинжала», как «рану», которую нельзя залечить, «наложив на себя руки», из тела, непрестанно сочащегося мыслью и кровью и открытого навстречу неотвязной многомерности), вырывается, подобно растянувшимся следам, «вихрь бессознательных способностей». Тем самым тексты, языковые фрагменты, возникающие в поле трансфинитного чтения, немедленно попадают в работу, выводятся из равновесия, подвергаются переписыванию и в буквальном смысле насилуются в ходе этого безостановочного процесса: реалистический роман, мифологические источники, фантастические рассказы, естественнонаучная энциклопедия — всякий раз речь идет о проникновении одного текстового уровня (производящего, вторичного, преступного) в другой (безгрешный, предметно-образный); это — разрушительный, негативный, аннигилирующий процесс, который, удваивая репрезентацию, тем самым ее разлаживает, почти сексуальным жестом сводит репрезентативную ткань к ее графической циркуляции (как это происходит в эпизоде с маленькой девочкой и бульдогом). В результате такого переполнения иерархический строй (строй смысла) предстает как продукт сна и опьянения («Всевышний пьян — кто бы мог поверить?!»), о чем лучше всего говорится в следующей фразе: «Все в природе: планеты, деревья, морские хищники — прилежно трудилось, выполняя свой долг». Посреди этих трудов «бог» (смысл) — всего лишь пьяный забулдыга, потерявший право на власть, поддавшийся (как и в строфе о борделе) «акуле гнусного себялюбия»).
Теперь мы можем воскликнуть вместе с ним: «Разве ведомо вам, каких усилий стоит подчас не выпустить из рук поводья вселенской колесницы! Как от натуги приливает к голове кровь, когда приходится творить из ничего новую комету или новую расу мыслящих существ!» Кроме того, стремясь замаскироваться на логической линии истины, любое иерархическое (понятийное) притязание вынуждено всячески отрицать свою причастность к преступлению и сексу; однако в подобном акте отрицания (представляющем собой ослабленный вариант текстового отрицания) оно с неизбежностью теряет хоть один волос (знак), который, упав, немедленно подпадает под юрисдикцию текста, для которого все волосы (знаки) уже давно сочтены: именно таков диалог между волосом и его «хозяином», который происходит на специально отведенной для этого сцене письма (где все измерения выходят из-под контроля, где мерой любой вещи становится внутренняя напряженность воплощающего ее слова) и который мы наблюдаем через «окошечко» третьей Песни — там, где «первоначальная» — запретительная — надпись оказывается стертой и заново вырезанной ножом на стене (на странице).
«Кто: человек, иль камень, иль пень — начнет сию четвертую песнь?» А кто — пень, камень или человек — должен завершить ее чтение? Как ни суди, а обозначено здесь лишь вопросительное местоимение «кто». Подобно тому как бесконечный текст расчленяет и разбивает замкнутую систему языка, его мысль проникает в тело, встроенное в такое целое, где мышление не способно помыслить само себя, включенное в такую внутренне противоречивую среду, где любая из множества точек зрения способна одновременно занимать все возможные грамматические позиции, соглашаться на все «естественные» условия. Речевая деятельность становится воплощением того изначального состояния, когда она исходит отовсюду, а ее беззвучные отголоски растекаются по всем шарнирам и по всей оси языка; таково сравнение; таковы осы в Дендерском храме: «Треск тысяч жестких крылышек подобен оглушительному скрежету громадин-льдин, что наседают друг на друга, когда весна крушит полярный панцирь».
Такое сокрушение, такая экспансия текста оказываются возможны лишь потому, что сам принцип сдвига, неустранимого различия, несамотождественности находит воплощение в той функции, задача которой — «воспевать» текст на поверхности произведения, вместо «он» говорить «я»: «я один против всего человечества». «Он поет для самого себя, а не для себе подобных». В самом деле, находясь в кругу «себе подобных», эта функция подвергается «добровольному» испытанию, причем именно в той мере, в какой она не совпадает сама с собой, меняет свое место внутри «человека»: «…я же давным-давно перестал походить на самого себя. И я, и человек — мы оба ограничены возможностями нашего скудного разума…» Далее, в полном согласии с традициями латинской риторики (ср., например, пассаж о «башнях», иллюзиях и апологии чувств в другом великом разоблачительном сочинении — «О природе вещей», кн. IV, 355—556), возникает цепочка «столпы-баобабы-булавки-башни», различия между которыми как раз и обеспечивают их тождество: «…можно без боязни утверждать…, что столп не столь уж разительно отличается от баобаба, чтобы исключалось всякое сравнение между этими архитектурными… или геометрическими… или архитектурно-геометрическими… или нет, не архитектурными, не геометрическими, а скорее, просто высокими и крупными объектами. Итак, я нашел — не стану это отрицать — эпитеты, равно подходящие и баобабу, и столпу…»
Здесь — в рамках линейного измерения, прямо «на этой странице» — произвольность отношения субъект-предикат, свойственная «языку в действии», потенциальный бунт «реальности» против любых попыток наложить на нее ту или иную решетку, возможность иных способов функционирования — все это явлено нам в самом акте чтения, причем (как и у Лукреция) с откровенно дидактическим умыслом, устанавливающим параллель между внутритекстовой организацией и восприятием «внешней» действительности. Бог-смысл, которому не под силу нарушить «великие всеобщие законы гротеска», есть не что иное, как образ языкового запрета, а письмо, эта «воплощенная метафоричность» (Деррида), используя специфический сдвиг, который можно было бы назвать трансференцией (чтобы отличить его от любой возможной «референции»), нарушает иерархию дискурса и расшатывает иерархически устроенный мир: «Скажу еще, что даже если бы некая высшая сила строжайше запретила употребление любых, хотя бы и самых точных, сравнений, к которым прежде каждый мог прибегнуть невозбранно, то и тогда, вернее, именно тогда — ибо так устроено наше сознание — закрепленная годами привычка, усвоенные книги, навык общения, неповторимый характер, стремительно и бурно расцветающий в каждом из нас, неудержимо влекли бы человеческий ум к преступному (говоря с позиции этой гипотетической высшей силы) использованию упомянутой риторической фигуры, презираемой одними и превозносимой многими другими. Если читатель…» и т. д. Вот почему «именно мелочь и способствует достижению наилучших успехов».
Вот почему «порой в моих суждениях может послышаться звон дурацких бубенчиков, а серьезные материи вдруг обернутся сущей нелепицей», причем зависит все единственно от «законов оптики». И все же подобную затею нельзя назвать ни пустой, ни, тем более, смехотворной (бессмысленной в том смысле, в каком понимает это слово смысл). Философу позволительно разразиться смехом, актеру трансфинитного текста — нет. Более того, смех — это показатель логической слабости: смеются те, кто привержен к силлогистическому мышлению, смеются из-за неспособности уловить логику тех или иных «пропусков», которые, напротив, отнюдь не могут удивить или застать врасплох «тех, кто досконально изучил полные неразрешимых противоречий законы деятельности мозговых извилин человека». Человек смеется, «словно петух», потому что он не умеет читать, и из-за этого выглядит еще более смешным, чем попугай, который будто бы ему подражает: петух «никогда не стал бы просто подражать: не из-за недостатка восприимчивости, а потому, что благородная гордость не позволяет ему коверкать свое естество. Научите его читать — и он взбунтуется. Петух — не то, что выскочка-попугай, которого собственное нелепое кривлянье приводит в упоение!»
Ведь «существует более простой способ прийти к согласию, и состоит он в том — я изложу его в немногих словах, но не забывайте: каждое мое слово стоит тысячи! — чтобы не спорить вовсе; это справедливо, но не так легко осуществимо, как обычно кажется большинству смертных. Спор — это игра по правилам». Именно так поэзия сможет наконец обрести «скромность», не заблуждаясь более относительно «собственной природы» («Стихотворения»: «Поэтические хныканья нашего века — всего лишь софиз-мы»/«Первоосновы не могут подлежать обсуждению»), иными словами, относительно основополагающего способа писать, под-писывать — способа, связанного с самой возможностью дыхания — производства/потребления бесконечного текста. «И подобно тому как кислород распознается по его способности — которою он вовсе не кичится — разжигать чуть тлеющую спичку, обнаруживаемое мною упорное желание вернуться к главной теме служит признаком изрядной обязательности».
Между тем, сам принцип двойственности, вызванный к жизни письмом и окликаемый в его пространстве, воплощается в веренице анамнезов и метаморфоз, когда все более очевидным становится тот факт, что никакого субъекта давно уже нет, что он растворился в движении письма. Говорящее тело мало-помалу поглощается не-телом письма, подвергается процессу анимализации, минерализации и вегетализации, что позволяет ему вновь воспрянуть, заняв двойственную позицию (акцент на «читателе»), когда игра зеркальных взаимоотражений позволяет окончательно преодолеть репрезентацию знака и «разума» (мира вымышленных подробностей): «Где же неуловимое тело того, кого видит глаза мои… Фантом смеется надо мной и вместе со мною ищет собственное тело. Знаком призываю его не двигаться — и получаю в ответ такой же знак… Ах, вот что… я все понял, секрет раскрыт… Все объяснилось до мельчайших подробностей, о которых, по правде, не стоило и говорить…». «Минутные провалы» памяти, равно как и «непризнание» собственного отражения также подчиняются «неумолимым законам оптики (текстовой оптики); признание же этих законов позволит пройти сквозь сон и сквозь грезу (психический аппарат) и обрести позабытую было беспредельность: «Если же я и дальше буду притворяться, что не подозреваю о смертоносной силе своего взгляда, которая губит даже планеты в небесном пространстве, то, пожалуй, сочтут, что память у меня отшибло начисто. Остается взять камень и вдребезги разбить зеркало». Отправившись на поиски отчужденного «человека» — отчужденного перцептивно, феноменологически, сознательно, бессознательно, понятийно, погруженного в «каталептическую летаргию», — текст намерен заново возродить его в волнах океанического прилива, в «сплаве бесчувственного камня с живой плотью». Переходный этап — «свинья»: «От искры божьей не осталось и следа; выходит, поднять свою душу до высоты вожделенного идеала совсем нетрудно».
Подобная метаморфоза влечет за собой симметричное изменение и в сфере «реального», так что, перед лицом текста, оппозиции внешнее/внутреннее попросту теряет смысл: «Увидеть нечто, по форме или же по сути отклоняющееся от всеобщих законов природы, не так уже невозможно». Достаточно лишь «натиска воли», чтобы «воображение переступило пределы, определенные ему здравым смыслом» и «неписанным договором». Целое разворачивается за счет противоречивого движения, двойного скольжения чтения/письма, которые как бы сползают с «бумажного листа» и, сочетая предельную быстроту с предельной медлительностью, устремляются в противоположные стороны: «Прошу читающего эти строки не делать поспешных и к тому же ложных выводов о несовершенстве моего стиля на основании того, что, разворачивая фразы с необычайной стремительностью, я вынужден отбрасывать всяческие словесные украшения. Увы! Я и хотел бы выстраивать свои мысли и сравнения неторопливо и изящно (но что поделаешь, коли вечно не хватает времени!), с тем, чтобы каждый читатель мог получше уразуметь…»
И действительно, «читатель» должен не затруднять повествование своим «губительным и бездумным легковерием» (репрезентативным), но отдаваться движению письма, позволяющему наверстать «стремительность» текста, слиться с его ритмом, с его звучанием, разворачивающимся как бы вопреки свертывающимся фразам. Именно тогда — сквозь злодейское позвякивание цепочек сравнений и метафор (поощряющих «тягу человека к бесконечности») — читатель сумеет расслышать язык, говорящий о себе самом и доносящийся прямо из тех недр, где он зарождается: «Теперь я понял: это моя мысль приводит в движение мой язык и шевелит моими губами — это говорю я сам». Подобное открытие можно совершить лишь принеся в жертву биологическую («семейную») филиацию, ценой «кровавого преступления», смертоносного поступка, чья необузданная свирепость и впрямь тяготеет над «Песнями». Отсюда — неожиданное заявление: «…в этом деле я не уступлю ученым!», звучащее столь же иронично, сколь и серьезно.
Океан, математика, вихрь — именно в этих словах, а вовсе не в «оригинальных идеях» ограниченного (линейного, языкового) чтения, бесконечный текст готов узнать свой собственный лик. «А полуправда всегда порождает множество ошибок и заблуждений!» Диалектическая тактика текста созвучна не цивилизованному голосу, но голосу «инстинкта»; это — множественная тактика, хотя и подчиняющаяся «строгому порядку». Подставим, к примеру, вместо слова «птицы» слово «фразы» или слово «слова», а вместо слова «стая» слово «текст»: «Скворцы послушны инстинкту, это он велит им все время стремиться к центру стаи, меж тем как ускорение полета постоянно отбрасывает их в сторону, и в результате все это птичье множество, объединенное общей тягой к определенной точке, бесконечно и беспорядочно кружась и сталкиваясь друг с другом, образует нечто подобное клубящемуся вихрю, который, хотя и не имеет общей направляющей, все же явственно вращается вокруг своей оси, каковое впечатление достигается благодаря вращению отдельных фрагментов, причем центральная часть этого вихря, хотя и постоянно увеличивается в размерах, но сдерживается противоборством прилегающих линий спирали и остается самой плотной сравнительно с другими линиями частью стаи, они же в свою очередь, тем плотнее, чем ближе к центру».
В подвижном, устремленном вперед эллипсе, образованном песнями, эти линии оказываются ближе всего к центру, к пустой и подвижной сердцевине, к источнику всякого рождения; и так происходит всякий раз, когда текст начинает говорить о себе самом, забывая о случайно «прилегающих» сюжетных линиях, которые, впрочем, не менее необходимы для разработки и развития целого, нежели скрытые заимствования и цитаты, которыми питается это целое, претерпевая внутренние изменения, иными словами, уничтожая себя в качестве целого, образуемого отдельными частями. Речь здесь идет о той «глубоко философической концепции», которая «утратит всякий смысл, если отбросить то, что было изначально в ней заложено, то есть ее всеохватность». Дело, стало быть, вовсе не в том, чтобы «множить промежуточные формы», а в том, чтобы песня выглядела как привитый черенок, а не как смысл, произведение или зрелище. «Зло», причиняемое на сюжетном уровне зоревым злом, должно избавить функцию чтения (а вместе с ней и любого читателя, оказавшегося в плену у языка, у «воспитательной» линии) от зла; это средство, которому «мертворожденный ум» научает с помощью практического усвоения (текст усваивается и воздействует не столько за счет понимания, сколько за счет заражения): «…во всем нужна привычка, и поскольку то непроизвольное отвращение, что вызывали у тебя первые страницы, заметно убывает, обратно пропорционально растущему усердию в чтении — так истекает гной из вскрытого фурункула, — есть надежда, что хотя твои мозги еще воспалены, ты скоро вступишь в фазу полного выздоровления».
Дюкасс, разумеется, обращается с этими словами к самому себе, ибо это именно он продолжает чтение многомерного текста под именем Лотреамона и Мальдорора, однако «читатель» должен понимать эти слова в соответствии с требованиями письма, позволяющими, при посредстве «песни», получить доступ к чтению бесконечного текста (эта операция получает также и физическое воплощение, лишний раз требуя принести в жертву любое возможное «родство»: ср. цепочку: Мать/сестра (женщина) (висельник:)/гонорейный гной/киста/яичник/шанкр/крайняя плоть/слизняк): «И если ты исполнишь эти предписания, моя поэзия примет тебя в свои объятия и обласкает, как вошь, которая впивается лобзаньями в живой волос, покуда не выгрызет его с корнем».
Этот процесс самопознания текста, возбуждающий в скрипторе-читателе, сформированном и призываемом этим текстом, «нетерпеливую страсть к загадкам», — этот процесс особенно заметен в пятой песни, в строфе о скарабее (первый симптом бессмертия): «…я пошел за ним следом, держась однако же поодаль… Я все еще не мог понять, что это за существо на кочке, к которому я приближался». Вот здесь-то и возникает цепочка сравнений «прекрасен, как» («прекрасен, как поспешное погребение»), подобных неким вращающимся приспособлениям, поворотным кругам сцены, на которой происходят метаморфозы письма. Что здесь действительно «прекрасно», так это не «вещь» (ее параллелью является речь), но записанная строфа, которая сама подобна некоему как (так что на самом деле всегда следует читать: прекрасен, как все, что находится в процессе письма). В данном случае письмо, открывая множественную перспективу, возвращает в пределы линии те следы, которые, играя роль временных репрезентаций, образуют совокупность тех линий, которых уже или еще нет в наличии. Показателем этого самопоглощения следов, то есть такого их удвоения, которое стирает эти следы, когда они пропитывают разграничиваемый, членимый и поддерживаемый ими материал, — этим показателем оказывается Я, которое говорит «я», обращаясь к противо‑Я противо-письма. Это Я видит то, что противо‑Я читает. Речь, следовательно, идет об одновременности, о такой множественности, которая помечает линейное единство; она равнозначна в нем целому, которое есть внутренне противоречивая, диалектическая энергия (выжигающая линию, болезнь, остаток, причем именно этот остаток рассказывает об операции выжигания). Так между Я и противо‑Я происходит полный взаимообмен, при котором Я узнает все, что раскрывает (разоблачает) его письменный двойник. «А я‑то думал, что это просто ком навоза… Вот дурень…»
Подобная наука взаимообмена предполагает не только наличие разрывов и «перебоев» («периодического отмирания всех человеческих чувств»), но также и провозглашение хронической бессонницы: «С самого недоброй памяти дня моего рождения…». «Я выбрал этот жребий сам, здесь нет ничьей вины»; «спящий слабее оскопленного самца»/» Порою все же мне случается грезить, но при этом я ни на мгновение не теряю живейшего ощущения собственной личности и вполне владею своим телом». Исключая всякую «субъективную» проблематику («греза» как нечто значимое), непрестанная трансференция письма ставит под вопрос и любой возможный «рефе-оент», Великий трансцендентный Объект (кто же не знает его имени?), полагаемый в качестве такового идеалистической концепцией знака, смысла и феномена, идеей причинности, которая становится «мерзким соглядатаем» текста, его самозваным дешифровщиком, самозваным «другим», великим «другим», его анонимным шрамом, противописьмом, паразитом, вошью: «Я существую, и значит, я — это я, и никто другой. Я не потерплю двоевластия. Я желаю распоряжаться своею сокровенной сутью единолично. Я должен быть свободен… или пусть меня превратят в гиппопотама. Провались сквозь землю, невидимое клеймо. В одном мозгу нет места для меня и для Творца».
«Другой» — это эффект дискурса, не более и не менее того; но ведь письмо как раз и покончило с дискурсом (который «пожелал взять в руки бразды правления всем миром, но оказался не способен властвовать»). Вот почему кольцо письма, этот «сумасбродный питон», может спросить у текстового актера: «Что за чудовищное наваждение мешает тебе узнать меня?». Устраняя лжепризнание, имеющее вид непризнания, то есть видимость сходства, принцип узнавания, управляющий письмом, стремится установить непреложное различие, иначе говоря, то «большое сходство-различие», при котором все вещи в каком-то смысле схожи, а в каком-то — различны», вследствие чего всякая вешь, за отсутствием основания для сравнения, оказывается равноценной любой другой вещи: «…остается лишь дивиться… умственной неповоротливости, каковая, как я уже заметил, объясняется неизменной привычкой взирать на все и вся с глубоким и ничем не обоснованным безразличием. Как будто ежедневное лицезрение делает предметы менее достойными внимания и пристального любопытства!» Постоянно возбуждать любопытство, нарушать иерархию дискурса, привлекать внимание, способное периодически соотносить все со всем («прекрасен, как») — в этом, собственно, и заключается работа письма: «Поистине достойно удивления, как тянет нас искать (чтоб сделать общим достоянием) различие и сходство в предметах самых разнородных и столь, казалось бы, малопригодных для таких курьезнейших сопоставлений, но, право же, сии сравнения, которые писатель придумывает просто для потехи, весьма украшают его стиль и делают его похожим на неподражаемую, неизменно серьезную сову. Так отдадимся же увлекающему нас потоку…»
Особенно примечательны сексуальные последствия всех этих манипуляций. Ведь подобно тому как «тело» ассоциируется с идеей речи, репрезентации и сходства, точно так же идея бесконечного текста и письма, стремящегося помыслить и тем самым разрушить тело, — эта идея один только пол признает в качестве знака своей негативной работы, танатографии: «Мой член всегда чудовищно раздут». Гомосексуальность, отвергаемая в «Стихотворениях», в «Песнях» не только постоянно присутствует, но и получает объяснение: «О непостижимое племя педерастов…»/«Я нуждаюсь в существах, подобных мне самому». В действительности же такой акцент и столь «беспристрастная» апология одновременно оказываются (как это всегда бывает в «Песнях») и изобличением: желать подобное значит желать того человека, который, явившись извне, станет читать написанное, читать тождественное в ином: «Но нет, все тщетно, непроницаемая плотность этого, во многих отношениях непревзойденного листа бумаги мешает нам окончательно слиться». Гомосексуальность (автосексуальность) застревает в неразличенности, в отсутствии всякого различия, но как таковая она имеет всеобщую форму (то есть с тем же успехом действует и в пределах «гетеросексуального» бессознательного, которое есть не что иное, как псевдоразличие) в рамках цивилизации, выдвигающей на первый план единство говорящего субъекта; гомосексуальность едва завуалированное и вместе с тем весьма показательное обличье этой цивилизации; вот почему Мальдорор оказывается ее совершенным, космогоническим воплощением (недаром вселенная сравнивается с «гигантским небесным задом») и превращается в тот самый фаллос, чья «божественная сперма» («приворотный талисман») как бы заново развязывает страсти порожденных ею существ: «Я укрываюсь в самых недоступных местах, чтобы распалить их еще больше»/«Молчаливый месяц… печально освещает лишь горы трупов на месте жуткой сечи». Гомосексуальность (одержимость фаллосом как верховным означающим) превращается в тайную сообщницу всей платонической, христианской, антиписьменной цивилизации — цивилизации знания, истины, человека, отца и Творца. В целом, это, конечно, секрет полишинеля, хранимый родом человеческим, подавляемый им при помощи «глупого» законодательства, но все постоянно им управляющий. Гомосексуальность — это вовсе не трансгрессия закона, это еще одно, дополнительное его воплощение — то самое, которого как раз и домогается закон. «Лишь эта возвышенная цель влечет к себе все мои помыслы, и, как вы сами можете судить, держаться тесной колеи той темы, что была намечена вначале, я более не в силах. Последнее слово… то было зимней ночью. Свистал и гнул ели студеный ветер. И в этой тьме кромешной Господь отворил свои двери и впустил педераста».
Как и в строфе о борделе и о волосе, здесь «наблюдатель» текста не может обойти вниманием это основополагающее измерение самой системы знака. Затем следует: «Тихо! Идет похоронная процессия». Песня становится «загробной». И вот, несомая «священнослужителем», появляется «золотая эмблема, изображающая детородный член и лоно, в знак того, что эти части тела становятся весьма опасными инструментами, когда — отбросим всякое иносказание — ими пользуются бестолково и вопреки велениям природы, вместо того, чтобы пускать их в ход как действенное средство против всем известной страсти, служащей причиной едва ли не всех человеческих бед». В этот момент текст настаивает на том, что ему неведома смерть, которая, впрочем, неспособна говорить о себе на «причудливом языке» людей — на языке, который к тому же представляет собой не что иное, как ограниченное (структурированное) проявление текстовой бесконечности: «Не будьте столь спесивы, советую вам от души, чтоб думать, будто вы одни владеете бесценным даром облекать свои мысли и чувства в словесные одежды». Смерть настигает человека с такой же легкостью, как муху или стрекозу; дрожь смертельной опасности пробегает от фразы к фразе и от начала каждой фразы к ее концу: однако же наступит время, когда «все наконец поймут, каков подлинный смысл недолгой разлуки души и тела. Ибо полагающий истинною жизнью пребывание здесь, на земле, находится в плену иллюзии, которую следует поскорее развеять». Такое ускорение и будет впредь править движением «Песней» — сразу же после строфы о пауке («все это уже не на словах… Увы! все это реальность»), куда стягиваются все вымышленные образы текста, где выставляется напоказ его мифологическая матрица, подчеркивается его роль «чудовищного кровопийцы», — строфы, приводящей текст на порог того пространства, которое вберет его в себя, уничтожит, просветит рентгеном все его «не требующие истолкования гиперболы», поставит перед лицом «зари», «преображенного мира» и его собственной «измученной души».
Действительно, функция письма обнаружит теперь свою способность контролировать не только тело, но и тот антураж, в котором это тело является. Непосредственно предвосхищая ретроактивный и всеохватывающий эффект «Стихотворений», эта функция, по всей видимости, должна непосредственно вписаться во все три измерения, образующие тот объем, который как раз и связан с будущим (она должна стать тем, что она есть, — «предисловием к будущей книге»; это книга, спроецированная в будущее в виде нескончаемого предисловия, не-книга, предваряющая любую книгу, появление которой беспрестанно откладывается, это решительный выход за пределы книги-темницы, символизирующей речевую эпоху).
Три абстрактных «персонажа», уничтоженных в битве, ведущейся в линейном измерении «Песней» («и человек, и Творец, и я сам») впишутся отныне рукою вымысла в «реальность», перестанут быть «анафемами», порожденными фантазией «чудовищами», «кошмарными видениями, превосходящими повседневный опыт». Происходит глобальное перераспределение письма: «Живая кровь чудесно заструится в их жилах, и вы будете поражены, когда найдете там, где ожидали встретить лишь неопределенные и чисто умозрительные образы, жизнеспособный организм со всеми нервными узлами и слизистыми оболочками, но в то же время подчиненный высшему духовному началу, которое главенствует над физиологическим процессом. Пред вами в прозаическом обличье (что не ослабит поэтического эффекта) предстанут вполне полнокровные существа, глядите, вот они стоят рядом с вами, скрестив на груди руки, и солнечные лучи, скользнув по черепичным крышам и каминным трубам, явственно освещают их самые что ни на есть земные, осязаемые кудри».
«Причем такое изменение пойдет моей поэзии только на пользу. Вы сможете потрогать собственными руками нисходящие ветви из аорты, пощупать их надпочечники, не говоря уже о чувствах. Впрочем, и начальные пять частей были небесполезны: они послужили фронтисписом моего произведения, фундаментом моей постройки, преамбулой моей будущей поэтики. Итак, «синтетическая» часть «Песней» (где была осуществлена деструкция знака, репрезентации а также «человека и его Творца») завершена и закончена. Теперь начинается часть «аналитическая», где станет очевидно, что текст отныне располагается по ту же сторону, что и пространство, — не внутри пространства, но рядом с ним; их связывает то же отношение, которое позволило читателю и скриптору как бы покинуть собственные тела, переселившись в тело партнера: «я утверждаю это со знанием дела».
Требуется определенное время, чтобы принять и понять подобное превращение, приводящее на самый край письма — в транслингвистическое, открытое (не поддающееся структурации, неощутимое) акаузаль-ное пространство — в пространство, которое еще только предстоит создать, которое все еще в будущем и «снаружи»: «лишь позже, когда таких романов станет больше, смысл этого написанного рукою мрачно-ликого отступника вступления откроется для вас». Текст отныне находится «вне языка» (вне закона), и, следовательно, «будем продолжать нашу повесть, однако, как это ни глупо…, не прежде, чем достанем все, что нужно для писания: перо, чернильницу и несколько недревесных листов». Этот результат был получен за счет добровольно вызванного изумления (перед лицом линии и языка, их плоскостных координат). Между тем, нужно еще сделать некое «ясное и точное обобщение», которое будет иронически представлено в Песни шестой как начинающаяся чреда «поучительных строф», а также «драматичных и безупречно дидактичных» эпизодов. В самом деле, задача текстовой активности вовсе не в том, чтобы произвольно нарушать «законы логики» и оказываться в «заколдованном кругу», а в том, чтобы вершиться в самом сердце человеческих обществ, в истории, начиная с «незапамятных доисторических времен». «Лучезарное прошлое внушает радужные надежды на грядущее — оно их непременно оправдает. Я чувствую, что эти мои строфы следует подвергнуть основательной прополке, приняв за образец естественную риторику, поучиться которой я намерен у дикарей… Свидетельствую: в этом мире нет ничего, над чем пристало бы смеяться. Все, что в нем есть нелепого, возвышенно по сути. Когда же я достаточно овладею желанным стилем — хоть кое-кто узрит в нем примитивность (тогда как он, напротив, есть перл глубокомыслия), — тогда употреблю его для изложения идей, которые, увы, быть может, не покажутся великими!.. Но знайте, поэзия везде, где только нет дурацкой и глумливой улыбки человека, с его утиной рожей».
С точки зрения письма, которое, создавая любую репрезентацию, исходит из собственного продуктивного замысла («в местах, которые мое перо… сделало таинственно-зловещими») и оказывается единовременным самому себе, любой «роман» и любой «реализм» разоблачаются и отвергаются как воплощение произвольности, как обскурантистская линия, между тем как текстовая, множественная, предвосхищающая будущее операция становится наукой алеаторики; эта наука ведает расстановкой и соотнесенностью чрезвычайно удаленных друг от друга точек, промежутки между которыми как раз и заполняет повествование (хвост/балка/носорог). Реалистический (условный и буржуазный) фон связан с «рассуждениями, продетыми сквозь намыленные кольца обязательных метафор». Снаружи же уже притупил к делу совершенно безликий, «дышащий холодною тьмою дух»: «Следуя вашему примеру, не ставлю подписи: в наше причудливое время может легко произойти все что угодно».
Благодаря ярко выраженному познавательному эффекту («Я вдруг заметил что у меня всего лишь одно око посередине лба!»), невротический мир речевого единства решительно и бесповоротно берется в тиски: «бесстрастно созерцая врожденные и приобретенные увечья, которыми украшены апоневрозы и душа покорного вашего слуги, я долго размышлял о раздвоенности, лежащей в основе моей личности, и… находил себя прекрасным». Следующее далее сравнение «прекрасен, как» касается не только половых органов, но и, отнюдь не случайно, произвольных условностей музыкального языка: «прекрасен, как истина, гласящая, что система гамм и ладов, а также их гармоническое чередование не основаны на природных закономерностях, а, напротив, есть результат использования эстетических принципов, которые менялись, с развитием человеческого общества, как меняются и теперь». Порывая с любой претензией на репрезентативность (а значит, и со знаком и его зеркальной функцией, а также с субъектом и с той ролью субститута, которую ему приходится играть), текст имеет право заявить: «Вы должны без колебаний принять на веру то, что я сказал». Конститутивная двойственность, трансфинитный текст, письмо, кладущее конец фикции творческого единовластия: «немало доводов, основанных на глубочайшем знании природы, решительно опровергают версию единовластия. Нас двое, вот мы лицом к лицу, на равных, гляди же…» Текст есть произведение двоих, и он сам этих двоих производит.
Чтобы «подвести черту», иными словами, чтобы зримо порвать одну из своих многочисленных, причем произвольных, связей с языком (не с тем языком, который проговаривается, но с тем, который цитируется, пропе-вается, расшатывается, объективируется, смещается, «переливается» из одного «мозга» в другой, создавая в конце концов революционное пространство), — чтобы сделать это, текст должен показать, что ткань, из которой он соткан, безгранична, он должен продемонстрировать свою способность к инифинитизации, чреватой распадом, развитием, бесконечным дроблением и бесконечными зигзагами. Появление «коронованного безумца», строфа о «трех Маргаритах» знаменуют собой систематическую практику не-значимости, акаузаль-ного письма, для которого — коль скоро он осуществляет процесс постоянных корреляций, как раз и составляющих его собственную логику, — не существует ни безумия, ни незначимости («я… не могу выложить все сразу: каждому эффектному выпаду — свое время и свое место, и ничто не должно нарушать архитектуры моего словесного построения»); эта логика обрекает на смерть и повествование, и метафору, и «поэтическую реальность». «Развязка близка, да и вообще в подобных случаях, когда описываешь страсть — какую именно — неважно, — лишь бы она сметала все преграды на своем пути, — совсем ни к чему запасаться целым чаном лака, чтобы покрыть им добрых четыре сотни скучнейших страниц. Что можно уместить в полдюжины строф, то следует скорей поведать и умолкнуть». Препарирующая работа письма, озабоченного не тем, чтобы «прояснить», а тем, чтобы «развить» свою мысль (это развитие механически конструирует мозг повествования — «усыпляющей байки», и, словно гипноз, притупляет способность иерархического чтения смысла), — эта работа подрывает даже «абсолютные истины». Пространство, в котором происходит эта работа, весьма восприимчиво к самим «бессмысленным» отношениям; оно обладает способностью соединить между собой любые лексические точки, но делает это в определенном порядке, в виде уравнений (краб/ альбатрос/ балка/ Вседержитель/ носорог/ веревка/ четырнадцать кинжалов/ петух/ канделябр); в этом случае текст, погрузившись в «ледяное молчание», производит все свои эффекты разом, уничтожая любую возможность семантической аккумуляции (возникновения какого бы то ни было внешнего, верховного смысла) или последовательного развития, завершающегося определенным «выводом».
И вот приходит время во всех подробностях показать, как текст сходит с линии и вступает в пространство, сулящее ему «бессмертие»: человек, предаваемый казни, «раскачивается вниз головой» и увлекает за собой «казавшийся не столь незыблемым предмет». А человек, совершающий казнь, «скопил у своих ног изрядное количество наложенных друг на друга эллипсоидных витков веревки». Что же до текстового движения (движения «Песней» в целом), то оно становится «вращением в плоскости, параллельной оси колонны». «Праща свистит в воздухе, и на конце ее раскручивается тело…, удерживаемое центробежной силой в крайней точке радиуса той словно вычерченной в пустоте окружности, которую оно вновь и вновь описывают». Но вот начальная траектория веревки «усложняется»: «Теперь праща, описывая замысловатые кривые, вращается и по горизонтали… Рука отступника слилась в одну прямую с орудием убийства, как атомарные частички света, что составляют луч, проникающий в темную каморку». И вот эта «мускульно-веревочная» линия, еще туже натягиваемая твердой рукою текста, которая, взломав темную каморку языка, заливает его светом, — эта линия, под действием «бесконечной силы», внезапно ослабевает и обрывается, швыряя привязанное тело на «выпуклую сферу» того здания, где погребены так называемые «бессмертные» — «великие дряблоголо-вые» речевой цивилизации. Именно там, при соблюдении надлежащей дистанции, XIX век сможет узреть своего «поэта». Именно там покоится его скелет, усыпанный цветами бессмертия. «А кто не верит, пусть пойдет и убедится сам».
«Входящие, оставьте безнадежность»
«Стихотворения» непосредственно вписываются в то внешнее пространство, которое было открыто «Песнями», то есть, если угодно, возникают после них, хотя гораздо вернее сказать, что они пишутся под ними, среди них, в образуемых ими промежутках; с самого начала их форма напоминает не столько линию, сколько нотный стан (так, словно «Песни» представляют собою «слова» некой полимузыкальной записи или же уток ткани, оставшийся после того, как была уничтожена основа), где ошеломляющий переход к трансфинитному тексту уже не повествует о собственном возникновении, но отливается в ряд формул. Эти фрагментарные формулы и «максимы» возникают, если можно так выразиться, как продукты непосредственной исторической фиксации — в той мере, в какой они обретают пространственную форму, вписываются в трехмерную реальность, побуждая язык выступить в роли памяти (аккумуляция мертвых культурных клише, мертвый язык цитации), когда вместо борьбы против линии и закона (репрезентативного смысла) в дело вступает некий пустой строй, где и закон, и его нарушение утверждаются и отрицаются одновременно. То, что в «Песнях» совершалось под покровом языка, теперь становится поворотной точкой, позволяющей пространству письма раскрыться, сомкнуться, объять самого себя, разрядиться интервалами и пробелами, освободиться от границ и ограничений, обезличиться (фигуральное имя убивает личностность, а все безличное подписывается именем собственным). Поскольку язык, подобно трупу порожденного им субъекта, оказался выброшен в пространство и там уничтожен, постольку отныне разрушению подвергается уже не репрезентация, а понятие; для этого в действие приводится некий непрерывно работающий механизм — «продолжающееся издание»; его важнейшей функцией являются замещающая и корректирующая способность, цель которой в том, чтобы утвердить «исключительное благо».
Нейтрализация дуальности добро/зло, совершавшаяся в линейном измерении «Песней», в «Стихотворениях» достигается путем исключения всякого противоречия («Все — зло/все — добро»), когда, в соответствии с практикой сдвига и дисимметрии, любое зло именуется «добром» на языке болезни. В самом деле, в речевой коммуникации роли поэта и человека «меняются произвольно»: автор объявляет себя «больным» и принимает «читателя» в качестве «сиделки». В пространстве же письма (бесконечный текст — читатель — скриптор — записанный текст) поэт, напротив, оказывается «утешителем человечества». Бесполезность какой бы то ни было дискуссии, а стало быть, и «недоверчивости», ставшей излишней после того как мы «излечились» от своего читательского «доверия», позволяют нам переместиться из зоны «бури» и «циклона» в долину «величественной и плодоносной реки». И действительно, упомянутому «механизму» отныне подвластны любые языковые эффекты и их двусмысленное претворение в «идеи» и «грезы»: «Грезы приходят лишь во сне. Эти слова будто оттуда: ничтожество жизни, преходящее земное бытие, выражение «быть может», треножник, проглоченный хаосом, — благодаря им просочилась в ваши души эта влажная тленопо-добная поэзия истомы. От слова до идеи — один шаг». Этот «шаг» является также псевдоотрицанием (лжеотрицанием, «духом отрицанья»), работающим в речевом пространстве, но отнюдь не в пределах ассертивного письма, которое всецело утвердительно ив то же время всецело отрицательно. («Никому не дозволено впадать крайности — ни в том, ни в другом смысле»). Такое «да-нет», переходящее от «слов» к «идеям» (осуществляющее знаковый и понятийный процесс), следует принципиально отличать от «да» без «нет» и от «нет» без «да», от «да нет» текстового письма и процесса его развертывания, когда слова (идеи) неизменно оказываются лишь вторичным моментом транс-скрипции. Все это означает, что психологизаторскую систему двойственности следует разрушить до основания: «Пора, наконец, восстать против всего, что столь удручающе нас ошеломляет и самовластно гнетет». Это — «гримасы, неврозы, кровавые цепочки рассуждений, по которым пропускают затравленную логику…, плоские суждения…, роды более ужасные, чем убийства…, безнаказанно освистанный разум… (всё) бормочущее по-тюле-ньи… ублюдочное, педерастическое…, бородатые женщины…, все, что не мыслит по-детски…, смутные перспективы, затягивающие нас в свои незримые шестеренки».
Если вы не решаетесь самостоятельно в чем-то «убедиться» (то есть остаетесь на положении репрезентативного читателя, читателя, репрезентирующего знание), то система знака (де-скрипция, фонетизм) увлекают ваш разум «за пределы доступного пониманию». «Роман — жанр ложный, коль скоро он описывает страсти ради них самих, не извлекая при этом никаких полезных с точки зрения морали выводов». «Тот, кто воздерживается (от описания)…, сохраняя способность восторгаться и понимать тех, кому даровано (описывать, делая из этих описаний «полезные выводы»), возвышается (над тем, кто занимается описаниями)». В пределах этой демистифицирующей практики, практики второго порядка «прилежный ученик» («наставление,., проявление долга на практике») «превосходит» (ибо он еще не настолько замаран) любого сочинителя, поскольку «положительная оценка сочинений… куда предпочтительнее самих этих сочинений».
Речевая, линейная система производит непрерывные опустошения («Следует неусыпно следить за бессонницами, сочащимися гноем»), и даже если роман «обнаруживает» их, они не утрачивают от этого своей историчности, коль скоро и роман, и история одинаково прилагают руку к тому, чтобы свести историю к поверхностной зрелищности, превращающей ошибку в «скорбную легенду». Вот почему «реальные» персонажи и персонажи вымышленные, мифологические на равных правах входят в «шумную когорту картонных пугал» (Наполеон, Байрон, Шарлотта Корде, Манфред, Мефистофель, Дон Жуан, Фауст, Калигула, Каин, боги древнего Египта) — и текст заявляет, что он, будучи «ниспосланным свыше укротителем», призван уничтожить их всех. Первая задача в таком случае — покончить с настойчивыми посягательствами псевдотекста, с той сценической программой, которая явственно обнаруживается в сочинениях «пошлых писателей, опасных шутников…, дешевых изобретателей запретных ребусов, содержащих, чего я прежде не заметил с первого взгляда, весьма фривольные намеки». Линейный человек — это картезианский селезень сомнения, издающий «ужасающие и дикие стенания», подверженный приступам «невыносимого оцепенения», это «литератор», чья теоретическая и практическая «злоба» (изобретение «ребусов») выставляет на передний план «обыкновенную задницу», иначе говоря, ту самую дискуссию, которая не в состоянии увидеть себя в записанном виде. «Автор», как и его сообщник «читатель», строящий «смутные предположения», «сам себя выдает и, опираясь на благо, протаскивает описание зла», то есть, игнорируя письмо, впадает в псевдоотрицание: он «говорит». Эта речь спорит, описывает, вопрошает, отрицает, но, будучи паразитом письма, она способна обернуться лишь уродливой гримасой, тиком.
Литераторы, эти безликие дряблоголо-вые существа, хотя и носящие собственные имена, но неспособные их видоизменить, неспособные вернуть себе собственное имя, существующее в пространстве письма, неспособные обрести родовое имя письма, — эти люди в конечном счете имеют право лишь на фиктивное прозвище (позаимствованное в трансфинитном тексте, который они не сумели распознать и который неминуемо превращает их в воплощенные «тики», в отражения оральной идеологии), как, например, Жан-Жак Руссо, этот «социалист-ворчун». «Бесстыдно хвалящиеся певцы меланхолии», они верили, что, подчинившись закону знака, сумели обнаружить в «собственном духе и в собственной плоти» какие-то «неведомые явления» (именно в силу своего языкового редукционизма и своей непосредственной позиции по отношению к нему они как раз и верили, будто обладают неким «духом» и некой «плотью»). Из-за этой «противной смыслу» описательности и изобразительности пером как раз и «правит кошмар», и этот кошмар отнюдь не «извлекает зло с корнем» (письмо), но «творит несчастье в своих книгах» вместо того, чтобы прямо и непосредственно передавать «опыт, добываемый из боли». Напротив, трансфинитная операция, осуществляющаяся в движении письма (бесконечное начало и бесконечные превращения), хотя и приходит через смерть но не воспринимает ее ни как свой горизонт, ни как свою конечную цель: «Нужно уметь вырывать литературные красоты даже из самого сердца смерти, но эти красоты уже не будут принадлежать смерти. Смерть здесь всего лишь случайная причина. Это не средство, но цель, которая не есть смерть». Повторим еще раз: в этом упорядоченном пространстве нет никакой беспричинности, автоматизма, в нем нет ничего хаотического, никакого пошлого «бунтарства» или псевдотрансгрессии, оно не сюрреально, ему чужды антиномии и прежде всего — антиномия «старого» и «нового»: «Те, кто под предлогом новизны желают привести литературу к анархии, приходят к полной бессмыслице». Точнее сказать, революционный текст «ничуть не моложе основ мироздания, иными словами, всегда нов, свободен от отрицания, будучи сам отрицанием, пребывающим в процессе бесконечного порождения и исчезновения; текст машинален, космичен, бессмертен, весь состоит из сдвигов.
Механизм «Стихотворений» как раз и призван выявить эти сдвиги. Однако поскольку «знание» текста не поддается выражению (ограничению), то оно проявляется в деформациях, вызываемых процессом перехода текста в фазу чтения, в том способе, каким он, ничего не оставляя на волю случая и пользуясь всем, что позаимствовано им из области знания, приводит к господству безостановочный акт цитирования, замены и исправления. Подобное исправление и есть воплощенный сдвиг. «Если исправлять софизмы, пытаясь приблизить их к истинам, соответствующим этим софизмам, то истиной будет лишь правка, а текст, таким образом пе-деланный, получит право больше не называться ложным- Остальное пребудет за пределами истины, неся на себе отпечаток лжи, и стало быть, не имеет силы и должно считаться недействительным». Мы видим, таким образом, что механистическая дихотомия истины и лжи подвергается в «Стихотворениях» пространственной и диалектической модификации. Правка, будучи не истиной, но практикой, оказывается истинной (это текстовой акт); исправленное произведение — неложно (это — одна из многих возможных истин); что же до произведения, подлежащего правке, то оно пребывает «за пределами истины», не имеет силы и не является действительным (оно не-написано): оно ожидает собственного свершения и целиком зависит от той «будущей книги», которая есть уже не книга, но мгновенный процесс правки всех тех книг, чей текст, будучи «продолжающимся», «не имеющим цены», историческим изданием, сам окажется воплощенной ректификацией и спациализацией.
Отсюда: «Личностная поэзия отжила свой век эквилибристических кривляний и фокусов. Подхватим нерушимую нить безличной поэзии». В истории эту нить присвоила себе личностная линия, хотя в действительности она была лишь ее отголоском и тенью. И если затронутой здесь оказывается даже наука, то причина в том, что, вычленяя, структурируя и аналитически обозначая тот или иной объект, она оставляет «личностную поэзию» в неприкосновенности, не подвергает радикальному подрыву фикцию субъекта и не находит языка для его полного уничтожения. Вот почему «безличная поэзия» должна включать в себя науку и стать наукой этой науки, ее текстовым, не поддающимся исчислению вне-текстом (не «произведением», но функционированием его корректирующего механизма): «поэзия — это прежде всего геометрия» (движение, пространство, число). Она приводит в действие абсолютную форму рассуждения, то есть такую технику уничтожения, которая способна излечить от «навязчивых снов», порожденных не только прочитанными, преподанными и впрыснутыми нам линейными текстами, но и запрограммированной знаковой болезнью, «запутанными вопросами», принадлежащими области мифических языков. Для этого следует «держать язык за зубами», «приходить каждый день» и не воображать, будто правка возникает путем сугубо референ-циального воздействия, а не вытекает из трансферен-циального действия письма («Воды всех морей не хватило бы на то, чтобы смыть хоть одну каплю интеллектуальной крови»). Механизм, о котором идет речь, никогда не отсылает к какому-то одному смыслу, знанию, истине или абсолютной реальности, но лишь к непрерывной диалектической практике с ее формализмом и динамизмом: «Поэзия должна иметь целью практическую истину»/«Критика должна быть направлена лишь против формы, но никогда — против сути ваших идей, ваших высказываний. Постарайтесь, чтобы это так и было».
Если человек исходит из этой практики, то, перестав быть «селезнем сомнения» (субъектом, который ведет свой спор на линии и исчезает на ней), он сразу же становится «гениальным» и «бессмертным», тогда как механизм принимается за свои «исправления», имеющие целью ликвидировать книжную религию («ничего не сказал»), раковую опухоль библиотеки, ставшей отныне ненужной (Данте, Вовенарг, Ларошфуко, Лаб-шойер. Паскаль), особенно в свете ее «нравственного» идиотизма. Подобно «Песням» и благодаря им, любой текст подлежит теперь чтению и переделке в матрице «Стихотворений». «Великие мысли идут от серд-ца»/«Великие мысли идут от разума».
С помощью процедуры охвата противоречивая двусмысленность, свойственная речевой эпохе», заменяется удвоением или повтором, чья цель — обозначить условия, при которых утверждение и отрицание наглухо отделяются друг от друга: это уже не закон, управляющий неким расплывчатым и двойственным единством (которое переходит от одного к другому, но неспособно сказать ни «да», ни «нет»), но законы дуального порядка пермутации (где все есть «да»/все есть «нет»). «Я записываю свои мысли по порядку, следуя строгому плану и замыслу. Если они верны, то первая пришедшая в голову окажется следствием всех прочих. Это и есть настоящий порядок. Он отмечает мой предмет каллиграфическим беспорядком». Таким образом, пространство письма получает установку в зависимости от эффектов ретроактивности и маркирования (субъект находится в маркируемом им объекте; письмо локализуется в ином, тем самым осуществляя необходимый сдвиг; явление, возникающее раньше, оказывается следствием того, что появляется позже и имеет вид функции целого).
Это пространство устраняет самую возможность какого бы то ни было происхождения, причинности, иерархии, фетишизации («Религии — это плоды сомнения»), «гимна», проделывая работу, направленную как на утверждение, так и на отрицание. Однако такое перевертывание не является обычным перевертыванием. Ведь и школьный надзиратель в состоянии понять «поэтов нынешнего века», «заменяя утверждения на отрицания. И наоборот». И однако это «наоборот» остается практикой школьного надзирателя — не более того. «Если нелепо нападать на первоосновы, то еще более нелепо защищать их от этих нападок. Я во всяком случае заниматься этим не стану». «Стихотворения» — это не защита «исключительного блага», «необходимых истин» или «первооснов»; лишь наименьшее зло, именуемое благом, защищается при помощи общего места, гласящего, что утверждение замешано на отрицании, а отрицание — на утверждении, что отрицание есть нечто противоположное сдвигу и производимой им смене логических уровней. В «не-защите», свойственной письму, производится не что иное, как функциональная активизация пространства, которое не знает противоположностей, ибо само является не только противоречием в действии, но и познанием этого противоречия (наукой о нем) — непротиворечием, противописьмом.
Речь идет не о простой замене утверждения на отрицание, но о том, чтобы обнаружить место (конкретное, историческое) этого «я заменяю», обнаружить сам акт «замены», а не его формулировку. «Когда я записываю свою мысль, она от меня отнюдь не ускользает, и это напоминает мне о моей позабытой было силе. Чем более скована моя мысль, тем больше знания и получаю. Для меня важно только одно: постичь противоречия моего ума и ничтожества». Модификация паскалевско-Го «записывая» и появление «скованной мысли» (вместо «ускользнувшей мысли») подчеркивает процесс раз-отчуждения, совершающийся в текстовом письме. БудУш скована и сконцентрирована на линии, мысль забывает о силе своего изобилия, воображает себя слабой и ничтожной (думает, что она и есть то самое отрицание, которое является ее носителем). В ответ на эту уловку появляются слова «когда я пишу», напоминающие о том, что мысль есть воплощенное письмо. Так, «сердце человеческое» становится «книгой, которую я научился уважать». Утверждение «человека» совпадает с его решительным отрицанием, и человек, принадлежащий дискурсу, окончательно демистифицируется: «Муха нынче плохо соображает. Человек жужжит у нее над ухом»/» Можно быть справедливым только не будучи человеком»/«Лишенный несовершенств, не переживший падения человек уже больше не является великой тайной» — и текстовой человек становится «существом, свободным от заблуждений»/«победите-лем химер, завтрашним дивом, закономерностью, терзающей хаос» и «примиряющей все» (но отнюдь не противоречия, как это свойственно делать субъекту дискурса, разрывающемуся между высказыванием-процессом и высказыванием-результатом). Так, для Паскаля (настойчивость, с которой в «Песнях» и в «Стихотворениях» на сцену выводятся Декарт и Паскаль, исторически оправданна) непостижимость основана на противоречии. Однако для диалектической практики и теории трансфинитного (бессубъектного) текста (по отношению к которому, напомним, записанный текст является лишь следом, подлежащим неустанному переписыванию) «нет ничего непостижимого»; «мысль отнюдь не менее прозрачна, чем хрусталь». Текст способен «выразить отношения, существующие между первоосновами и второстепенными истинами жизни. Всякой вещи — свое место».
Он становится наукой о том, как высказывать отношения, наукой о высказанное™ высказывания высказанного и в то же время — наукой о месте «вещей» (об их динамической спациализации, об их переменчивом и до бесконечности подвижном театре, в котором нет ни актеров, ни зрителей). Он «открывает законы, дающие жизнь теоретической политике», «психологии человечества». Он — единственное радикальное средство изничтожения «культов» («Нелепо обращаться к Элохиму со словом… Молитва — фальшивое действо»). Он, наконец, переступает порог собственного рождения: «Мне неведома иная благодать, кроме самого рождения нашего. Беспристрастному уму доступна вся полнота ее». Он разоблачает всяческую сентиментальность: «Любовь не следует путать с поэзией». Он полагает труд в качестве движущей силы диалектического производства («Труд — лучшее лекарство от приливов чувственности»), подчиняющегося лишь «предъявленной», то есть практической истине: «Помимо истины, мне неведомы никакие препятствия, которые разуму не дано было бы преодолеть». Он знаменует абсолютный разрыв с зыбкостью феноменального мира: «Всякое явление преходяще. Я же отыскиваю законы».
Следствием такого поиска должна стать соотнесенность «поэзии» со знанием. «Нет ничего более естественного, чем прочесть «Рассуждение о методе » после того, как прочтешь «Беретку». Подобно тому как «поэтическая» практика дает доступ философии, действие письма должно находиться в «единстве» с собственной мыслью. В противном случае «переход утрачивается. Разум противится нагромождению заржавелых железок, противится мистагогии». Если трагедия (трагическое представление) есть не что иное, как «нечаянная ошибка», то она все же сохраняет свой «авторитет» в той мере, в какой допускает «борьбу». Предметом ликвидации оказывается софизм (не диалектизированное текстом знание) — «последыш метафизического гонгоризма пародирующих самих себя авторов моего героико-бурлескного времени». Задача состоит в том, чтобы ввести в язык (через «песнь») то, что следует сделать, причем совершенно недвусмысленно, дисимметрическим путем — за счет качественного скачка и неравномерного развития: «Я не воспеваю того, чего не следует делать. Я воспеваю то, что следует делать. Первое не включает в себя второго. Второе включает в себя первое». Равным образом, добро есть не «противоположность» зла, но «победа над злом, отрицание зла» (отрицание отрицания). Действие письма освобождает в языке место для некой совокупности, стоящей вне закона, диктуемого образной истиной: «Чтобы быть доказательной, максима не нуждается в истине. Одно умозаключение предполагает другое. Максима — это закон, который включает в себя совокупность умозаключений. Умозаключение становится все более полным по мере приближения к максиме (к практической скриптуальности). Став максимой (письмом), оно отбрасывает доказательства метаморфозы». Выведенный таким образом «закон» искушает какой бы то ни было определенный, мгновенный, фрагментарный смысл: он содержит семантические противоречия, необходимые и достаточные для того, чтобы его эскиз превратился в некую завершенную последовательность, видоизмененную по сравнению с полым (совершенным) языком, который поддается заполнению, но отнюдь не исчерпанию. Таким образом, дуалистическому (добро/зло) и механистическому вокабулярию, где каждое слово определяется своей противоположностью, свойственна принципиальная неустойчивость, формирующая в механизме нечто вроде скриптабулярия, задача которого — преобразовать словесный ряд, при этом всякий раз учитывая молчаливый, инскриптивный сдвиг.
Этот процесс объясняет, почему «банальная истина» с необходимостью «заключает» в себе «гениальное» положение — механизм фабрикует «гениев» сколько угодно и когда угодно, контролируя процесс вербального порождения: «Слова, выражающие зло (выражающие отрицание), обречены на то, чтобы служить пользе. Идеи совершенствуются, и смысл употребляемых слов играет здесь не последнюю роль». Язык, и без того живущий в письме, мало-помалу сам себя интегрирует, растворяется в письме и минует все «остановочные пункты», в которых метафизика стремится его задержать. «Плагиат необходим. Прогресс требует плагиата. Он неотступно следует за фразой автора.., стирает.., заменяет». Движение письма есть одновременно стирание, замена и развитие: «Для того, чтобы максима была безупречной, ее не следует исправлять. Ее следует развить». «Иная мысль кажется нам не новее, чем дважды два, но стоит развить ее, как мы понимаем, что это — подлинное открытие». Требование развития исходит от самого текста, порождающего и формирующего собственные операторы, развивающегося в них, через них и через их преодоление.
А раз так, то Дюкасс получает возможность прочесть то или иное место из «Песней» Лотреамона, то есть развить (переписать) его, коль скоро, написав «Песни» и конституировав их читателя, сам он также сделался читателем, неважно каким, но другим по отношению к самому себе. «Комментарии излишни». Текст, порождение двоих, которых он порождает, устанавливает здесь свой закон: «Тот, кто внемлет одному, пренебрегая другим, лишает себя всех опор, дарованных нам во обретение путеводной нити». Дискурс тем самым обретает единство за счет действия: «Коль скоро душа едина, в рассуждение могут быть вовлечены и чувства, и ум, и воля, и разум, и воображение, и память». «Отвлеченные науки», в противоположность тому, что говорит Паскаль, называются в качестве неотъемлемого свойства «человека». Соотносясь с ними, «писатель» может, «не отделяя одно от другого… указать закон, управляющий каждым из его стихотворений», иными словами, предположить одновременно и высказывание, и высказанность высказывания высказанного, указать во множестве языков не только метки к которым они восходят, но и пространства, в которые они вписываются, в которых они развиваются, обмениваются, вспоминаются, исчезают, разлагаются, восстанавливаются, разнообразятся. В этом случае дело идет уже не о каком-то произвольном описании (в той мере, в какой оно привязано к системе реальности и знака): «Описания — это прерии, три носорога, половина катафалка. Они могут быть воспоминанием, пророчеством. Они — не абзац, который я сейчас заканчиваю». В инскрипции, подписывании и транскрипции слово замещает не свой «смысл», но метку более общего характера, чьей цитацией оно является, подобно тому как цифра замещает число. Так, в структуре расщепленного субъекта говорения слово «правитель» замещает «правительницу». Но «Правитель мировой души не управляет каждой душой в отдельности. Правитель отдельной души управляет и мировой (слово «правитель» вписано в текстовой процесс), но лишь тогда, когда обе эти души в достаточной мере слиты, и мы можем утверждать, что правитель есть правительница лишь в воображении потешающегося над нами полоумного». Механизм осуществляет управление и контроль над типами (над обобщенными совокупностями, моделями), а не над отображениями, копиями и репродукциями. «Бывают люди, которых не назовешь типажами. Типажи — не люди. Не следует подчиняться случайному. Итак, от типов можно перейти к предписаниям (к максимам, к всеобъемлющим формулам, к законам), постоянно напоминающим нам, что относятся они не к понятиям или субстанциям (в чем хотел бы уверить нас капиталистический строй «знания»), но к самому акту их артикулирования, их формализации: механизм функционирует, исходя из пустоты и будучи направлен в пустоту; он движется сквозь диалектику истории таким образом, что «большое сходство-различие» считывает «малое сходство-различие» до-исторического текста (так, «некоторые философы умнее некоторых поэтов… Платон — это… не Андре Шенье»; иными словами, будучи более «умной», функция «Платон» тем не менее коррелирует с функцией «Андре Шенье», так что обе они находятся в отношении взаимного производства: всякий платоник есть некий Андре Шенье, который может об этом и не знать).
Эффект текстовой интеграции, охватывая отношения между наукой, философией, религией, политикой, экономикой, техникой, правом, искусством, в конечном счете становится возможен благодаря существующей между ними устойчивой, хотя и неявной взаимосвязи, благодаря открытию афонетизма, благодаря зазору между знаковым и пространственным (практическим) письмом, письмом записанным и письмом пишущим, причем последнее включает в себя первое и в любой момент способно опровергнуть любые его положения. «Существует философия для наук. Для поэзии философии не существует… Странно, — скажет кое-кто». «Суждения о поэзии ценнее самой поэзии… Философия, понимаемая таким образом, охватывает поэзию. Поэзии не обойтись без философии. А вот философия обойдется и без поэзии». Однако: «В поэзии существует своя логика. Но это не та логика, которая царит в философии. Философы — не то же, что поэты. Поэты вправе поставить себя выше философов». Философия должна быть логической поэзией, а поэзия (поэзия, подвергнутая оценке) — всеобъемлющей философией. Но опять-таки: «Наука, которой я занимаюсь, это наука, отличная от поэзии. Я не воспеваю поэзию. Я силюсь обнаружить ее источник». Как тут не заметить, что, благодаря способу, каким они отсылают друг к другу, слова наука/философия/поэзия начинают обозначать некую замкнутую систему, чей «источник» как раз и обнаруживается в результате текстовой операции? Этот источник, который следует рассматривать не как некое «общее» первоначало, но, скорее, как место, где совершается событие, названное нами «проникновением», — этот источник, лежащий по ту сторону «чувств» («не ведающих порядка своего течения»), напоминает тот самый «принцип», который выдерживается «твердо и последовательно» — «страница за страницей». «Этот принцип — несуществование зла». Описательный уровень есть уровень метафизики знака и понятия, противостоящий любой практической ломке, что же до текстового принципа, то он, запуская в оборот идею несуществования нет (отрицания), заставляет ее двигаться в ряду утверждений и негаций, где обе силы в конечном счете остаются взаимонепроницаемыми. «Ничто истинное не ложно, а что не ложно, то истинно. Все противоположно мечте и обману». Так «человечество» приближается к своей «зрелости» (к своему диалектико-революционному периоду). «Трагедии, поэмы, элегии не будут больше занимать первое место. Во главу угла будет поставлена холодность максимы!»… «Жанр, избранный мною, столь же отличен от жанра моралистов, лишь констатирующих зло, но не указывающих на лекарство, сколь жанр мопалистов схож с мелодрамами, надгробными речами, одами и религиозной ученостью. Ощущение противоборства отсутствует». «Противоборство», которое трансфинитный текст выводит здесь на сцену, создает новую среду, где совершается уже не вечно повторяющийся акт умствования, тих индивида, находящегося в зависимости от своего имени, словно от собственности, но «человеческое» действие как таковое: «Поэзия должна твориться всеми, а не одиночками». У субъекта, который говорит, но воображает, будто он пишет, «одни и те же слова повторяются чаще, чем надо бы»: девербализующий механизм не функционирует в модусе анонимности, в модусе «двое-и-все», ликвидирующем принцип «один-и-никто» прежней истории. Эти «двое-и-все» замыкают систему знания («У всякого знания есть две крайние точки, и эти точки непременно соприкасаются»), которое, продемонстрировав все, что «доступно человеческому разумению», под конец обнаруживает, что люди «знают все» (Паскаль: «не знают ничего»).
Речь идет об «умудренном неведении, осознавшем себя». «Те же, кто вышел из природного неведения, но не достиг его противоположности (то есть те, кто эксплуатирует преходящую систему знаний, сопротивляясь революционному насилию текста), набрались обрывков знания и вообразили, будто все превзошли. Они-то как раз и не потрясают мира, не судя обо всем вкривь и вкось». «Чтобы познать какой-нибудь предмет, не следует входить в его детали. Без деталей наши знания так прочны!» Трансфинитное письмо ставит целью уже не истолкование, но изменение «мира»; мало того, что оно утрачивает референциальность (перестает сосредоточиваться на «вещах» или «вещи в себе», ибо оно несводимо к системе «субъект-знак-понятие-референт»), но, подобно тому как оно обладает способностью превращать любые высказывания в вербализмы, оно рассматривает мир знания в качестве некоего, пусть и неопределенного, но конечного текста, где все может быть познано путем наведения. Вот почему трансфинитное письмо может решительно порвать с идеализмом, прекратив «осушать слезы человечеству», «разговаривать с ним как с братом»: «это будет вернее». Оно может упорядочить и всю совокупность «человеческих» функций, придав им образ прогресса: «Для того, чтобы изучать порядок, не нужно изучать беспорядок. Научным изысканиям, равно как и всяким там трагедиям, стансам к моей сестрице и бреду умалишенных, здесь нет места». Наукообразная наука (культ знания) в конечном счете есть некий огрех письма, утрата пространства, в чем повинна и поэтизирующая поэзия — немножественная, непрактическая («Стихотворения»), ненаучная, неисторичная. По сравнению с текстовым молчанием, которое ничего ни от кого и ни от чего не требует, она только и делает, что возводит в ранг теории некий «непристойный» феноменализм: «Теорема по природе своей — насмешница. В ней нет ничего непристойного. Теорема не стремится найти применение. Применение, которое находят теореме, принижает ее, и само вследствие этого становится непристойным. Применение есть вызов материи, протест против ущерба, наносимого духу. Будем называть вещи своими именами».
В практике дисимметрии, в практике холостого, трассирующего смещения, которое контролируется механизмом в пределах некоего неоднородного пространства, происходит качественный «скачок», мутация, избавляющая язык от его «земной», презентативной, ПОНЯТИЙНОЙ, структурированной кругообразности («Чтобы описать небо, не следует использовать слова, которыми описываешь землю») и одновременно предполагающая известную оговорку, активное отсутствие, затрагивающее также и «законы»: «Не всякие законы следует объявлять вслух». Этот порядок, объемлющий «язык», присутствует в явлении, именовавшемся до сих пор «моралью»; ныне же он превращается в теорию сдвига, «исключительного блага»… фразу Паскаля: «Язык со всех сторон одинаков. Чтобы судить, нужна неподвижная точка опоры. Из порта судят о тех, кто на корабле, но где нам найти такой порт в морали?» Дюкасс переделывает следующим образом: «Чтобы судить, нужна отправная точка. Но где в морали нам найти такую точку?» Вот почему «каким бы ни был ум отдельного человека, способ мышления должен быть один для всех». Механизм, действие которого, между прочим, обнаруживается не в одних только «поэтических» ухищрениях, но и в самом обычном разговорном языке («Должен ли я писать стихами, дабы отделить себя от других? Пусть решит милосердие!»), основан не на «разуме», а потому способен познать и уразуметь этот разум («Порядок царит в роде человеческом: разум и добродетель вовсе не берут верх в сознании людей»), использовать его силу («Сила разума куда очевидней у тех, кто знает о ней, чем у тех, кто ее не осознает»), то есть диалектическую способность нотации, связанную с текстовым действием, — противоречивую науку».
Мы попытались объяснить, каким образом линия вымысла (на которой мы появляемся вначале), будучи рассечена и вскрыта с помощью практики, преобразует знание, ретроактивно воздействующее на эту линию, плюрализует, вертикализует, множит его и выстраивает ярусами, поскольку новое знание способно высказать себя не иначе как в форме исправлений, цитации, негативных и противоречивых интервалов (в форме механизма). Вот почему мы имеем возможность наблюдать, как, двигаясь от первой песни к шестой, «Мальдорор» осуществляет столь полную пермутацию, что она, позволив прочитать «Песни» в повествовательном режиме, затем выстраивает их, подобно гексаграмме, на ретроактивную «глубину»: таким образом, что читать их, в конечном счете, означает читать интервалы, пустоты между ними, имманентную геометрию языка, которым они пользуются как системой пространственных меток. Всякий раз вновь начинаясь с первой строки текста (или с любого его слова), процесс чтения движется сквозь фразы и знаки, которые, сохраняя изначальную определенность, вместе с тем приобретают прозрачность, причем этот аннулирующий (насыщающий) обратный ход одновременно удостоверяет их и их же изглаживает. Текст отныне выписывается в своего рода колонки, а «пустые места» в этих колонках заполняются пассажами из «Стихотворений»: все, что не говорится, пишется. Узнать, что «говорит» текст (а в этом-то и состоит познавательная роль письма), значит освоить пространство, связанное с ним своего рода числовыми отношениями. Происходит взаимовключение, взаимоналожение двух текстов, произведенных указанным образом; возникает возможность их взаимного чтения, когда каждый из них как бы смещается по отношению к акту собственного производства. Среди всех силовых линий текста повествовательная линия отличается тем, что указывает на пространство письма, и это пространство выводится на уровень знания (науки) с помощью логического механизма, который она сама создает и сама же уничтожает, который ею создается и ею же уничтожается. Стирая собственные высказывания, трансфинитный текст устанавливает непосредственную сообщае-мость между письмом и историей.
Мы, стало быть, оказываемся перед лицом такой науки, которая имеет целью не «истину», но порождение и уничтожение собственного текста, равно как и того субъекта, который в нем запечатлевается. Мы можем анализировать этот текст как след, оставшийся в результате некой непрерывно возобновляющейся (то есть «прогрессирующей») операции. Таким образом, возникнув на биографической линии (генеалогия, филиация), организм X движется навстречу собственному исчезновению, и это движение, достигнув предела, предполагающего некую логическую мутацию (противоречие, отрицание), вводит его в то особое пространство, по отношению к которому все, что «записано» (обозначено), оказывается всего лишь следом и остатком. Этот процесс приводит к переполнению социоис-торической системы речи, он раскупоривает ее, вскрывает замкнутый механизм, предусмотренный этой системой, в которой, будучи раз порожден, он в дальнейшем должен вновь и вновь совершать акты самопорождения, обращаясь на самого себя. При этом он совершает переход от обычной диахронии к синхронии, а затем к чему-то такому, что не является ни тем, ни другим, — и это позволяет ему, исходя из нулевой степени синхронии, установить контроль над любой возможной диахронией, осуществить диахронический процесс второй степени — текстовую историю.
Таким образом, поделенное на периоды, многомерное письмо времени (наличное и отсутствующее) образует пространство своего собственного закрепленного в знаках строя, и оно же сводит на нет этот строй: «Мне не нужно заботиться о том, что я буду делать в дальнейшем. Я должен был делать то, что я делаю. Мне не следует сейчас открывать то, что я открою позже. В новой науке каждой вещи — свое время. В этом ее совершенство».
1967



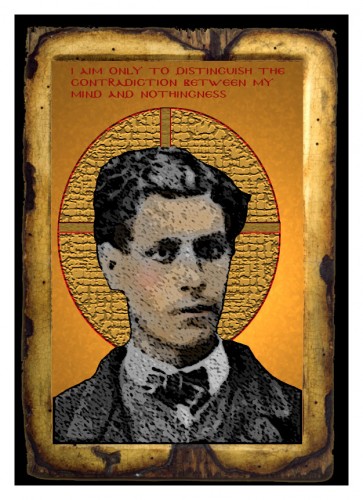







Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: