Нулевая степень кино
В нижеследующем мы спрашиваем о том, как соотносятся друг с другом Язык и Кинообраз. В самих формулировках уже нужно быть аккуратным, ведь любой фильм — это текст, написанный по законам определенного языка, а, стало быть, наш вопрос будет касаться Языка кино и Языка символического, словесного, т.е.: как соотносится увиденное на экране с тем, что может быть выражено словесно? Для удобства Язык кино мы назовем Кинообразом или Образом, а Язык естественный, словесный, будем понимать исключительно в этом значении.
Те из теоретиков кино, киноманов или режиссеров, которые этим вопросом задавались, вышли на достаточно глубокий уровень прочтения любого искусства в принципе. Не меньше он находится и в плане психологическом, и здесь он будет касаться двух стратегий мышления, одно из которых языковое, а другое визуальное. Однако, раз кино — это текст, то это и способ передачи разных смыслов. А есть ли такие смыслы, которые могут быть переданы только в одной из стратегий мышления? В каком-то смысле ответ будет приговором для искусства десятой музы.
Лишь на первых порах кино не было занято генерацией собственного смысла. Камера довольствовалась тем, что фиксировала кусочек абсолютной документальной реальности, не осмеливаясь даже разбить эту реальность на элементы. Лишь на этом кратчайшем промежутке эволюции кино вопрос о смысле не стоял, поскольку реальность на пленке и реальность за окном были эквивалентны. Это подтверждалось и естественной реакцией первых зрителей, которые только учились не убегать от надвигающегося с экрана паровоза или воспринимать взятую крупным планом чью-то руку не как отрезанную, а лишь как фрагмент изображения, (а не как фрагментированное изображаемое).
Простой крупный план, который сейчас мыслится нами как что-то само собой разумеющееся, когда-то был довольно сложной процедурой научения видеть во фрагменте вещи или человека метонимию, в которой часть репрезентовала собой целое (как например, ресницы героини).
Пионером построения подобных смыслов был, как известно, Кулешов, который простым экспериментом — комбинацией одного и того же изображения лица актера с изображением супа, детей и мертвеца, где лицо актера странным образом было то алчущим, то умиленным, то горестным, — представил миру новый вид рождения смысла. Точно также Кулешов демонстрирует кусок пленки, на котором зритель видит девушку, сидящую перед зеркалом. Она подводит глаза и брови, красит губы и надевает башмак. Однако в природе этой девушки никогда не существовало, она была монтажно составлена из отдельно снятых кусков плёнки: спины одной женщины, губ второй, бровей третьей и т.д.
Поскольку зритель не может перескочить отдельные кадры (как в случае, если бы он читал текст), он вынужден смотреть их в линейной последовательности и даже малейшая перестановка кадров может изменить смысловую наполненность изображения. Кулешов приводит на этот счет парадоксальный пример: «из открывающихся окон, выглядывающих в них людей, скачущей кавалерии, сигналов, бегущих мальчишек, воды, хлынувшей через взорванную плотину, равномерного шага пехоты можно смонтировать и праздник, скажем, постройки электростанции, и занятие неприятелем мирного города».
Итак, с тех пор, когда кино показало комбинацию нескольких планов, а уж позже и открыло монтаж, оно взяло в руки инструмент смысла. Справедливо отметить, что тогда кино шло рука об руку с Языком. Здесь мы, конечно, имеем в виду небольшие заставки с поясняющим текстом в немом кино. Их можно разделить на две категории — те, в которых текст рассказывал о том, о чем нельзя было сказать жестом и пластикой и те, которые дублировали образный смысл.
Пожалуй, нет примера ярче, чем «Броненосец Потемкин». Нас интересует сцена расстрела матросов «Потёмкина» на палубе.
Офицеры «Потёмкина» уже взяли винтовки на изготовку и приготовились открыть огонь по символически обезличенным матросам, на которых накинут брезент. Все ждут приказа. Тут несколько матросов падают на колени, словно в обморок, и предаются мольбе. Матрос Вакулинчук, которого тоже ждёт эта участь, сбирает в кулак волю и разум.
Суть происходящего не вызывает сомнений. Зрителю в данный момент абсолютно понятно, что Вакулинчук «решается», но парадоксально Эйзенштейну нужно здесь не выделить смысл Кинообраза, а превратить его в слово, в Язык. Слово гораздо мощнее и яснее, чем Кинообраз. Поразительно, но кадр и его языковое описание — это два разных смысла, которые теперь сведены вместе. Это один из драматичнейших моментов «Потёмкина» благодаря этому взаимоотрицанию двух языков, но и их схождению. Означающие тут взаимоотрицательны, но вот означаемые сходятся вместе.
Вакулинчук кричит немотой, тишиной, не-звуком. В данном случае это метафора, некая условность крика. Но уже через секунду эта условность становится безусловностью манифестированного словом значения: «Братья!». Теоретически зрителю не нужно знать в точности его слова, они и ясны даже по артикуляции губ. Но Эйзейнштейн открывает в этом моменте то, что если убить неопределённость Образа Языком, освободившаяся энергия пойдёт на эстетическую реакцию.
Кстати, то же самое мы встречаем в третьей части фильма «Мертвый взывает», в сцене с Наглым обывателем, крикнувшим среди толпы воодушевленных рабочих: «Бей жидов!» (см. ниже — 10:24 – 11:19). Прекрасно видно, как один из них говорит ему «сволочь», однако в данном случае никаких надписей не приводится. Здесь любое слово только разрушило бы динамику марша и вырвало самого зрителя из контекста чисто визуального ликования и восторга, выросшего из вселенской скорби. Эйзенштейн уловил то, что дублирующее слово Языка должно отрицать собою Кинообраз, а не добавлять к нему значения.
Та же часть, сцена траурной речи (7:55 — 8:12), за несколько секунд до того, как грянут литавры. Женщина у палатки с телом Вакулинчука рассказывает о его геройской смерти. В одном кадре мы видим тело с зажатой в руках бумагой «Из-за ложки борща». В данном случае это не Слово, поскольку входит в часть образа, Вакулинчук как бы олицетворяет собой страдание. Следующий за ним кадр — женщина, делающая указательный жест. Дальше уже надпись «Из-за ложки борща». Парадоксальным образом она не дублирует Кинообраз, а отрицает его и в этом отрицании кроется мощная сила смысла.
Говоря «отрицает», мы имеем в виду следующее. Р. Барт в одной своей работе рассматривает рекламный плакат (реклама – наилучший артефакт для разбора, поскольку её цель всегда остается четкой). Имеется фотография: из раскрытой сетки для провизии выглядывают продукты: макароны, банка с соусом, помидоры, лук, перец, шампиньоны. Всё выдержано в желто-зеленых тонах, фон — красный. Под картинкой надпись фирмы «Падзани». Здесь, как говорит Барт, — два сообщения, одно словесное, кодом которого является французский язык, а второе — визуальное, у которого нет кода, поскольку оно — фотография (фотография — сообщение без кода). Надпись фирмы здесь необычайно важна, ведь без неё зритель видит в принципе изображение, которое можно трактовать (или переводить из системы образов в систему знаков) по-разному: буквы логотипа (или рекламного послания, если оно есть) — настоящее спасение для затерявшегося в неоднозначности образа реципиента. Что означают эти продукты, зачем они здесь, почему именно они, на что они намекают или пытаются нам сказать?; надпись упраздняет все колебания и послание получает только один-единственный вектор толкования.
«Любое общество вырабатывает различные технические приемы, предназначенные для остановки плавающей цепочки означаемых, призванные помочь преодолеть ужас перед смысловой неопределенностью иконических знаков: языковое сообщение как раз и является одним из таких приемов». (Р. Барт «Риторика образа»).
Любое слово, сказанное в дополнение к изображению — неизбежно будет оттягивать на себя всю его смысловую структуру и лишать образ неоднозначности или множественности трактовок. Этим пользуются авторы, работающие в репортажном жанре. Если пустить видеоряд, изображающий обычный пустырь, а за кадром говорить, что это аномальная зона или место захоронения останков графа Шереметьева, то зритель будет склонен верить (или не верить — это тоже активное действие) словесному ряду, а ряд визуальный останется обойденным его лучом рефлексии.
Эйзенштейн прекрасно знал, где надо уничтожить всю ауру образа Языком, чтобы сделать его как можно ярче, а где надо оставить образ в покое. Пример: знаменитые львы. Броненосец палит по штабу генералов, театр Одессы подорван снарядом, следуют три кадра: каменный лев лежит, каменный лев испугался и привстал, каменный лев ужаснулся. Причем Эйзенштейн ведёт зрителя к этой неоднозначности через дорогу словесных описаний, то есть, не дает означаемому Кинообразов юркнуть в смысловую щель, ведь никогда его не удается сделать до конца однозначным.
Или ещё один пример. Как можно представить себе такое часто встречающееся в сказках действие, как «оживание»? Скажем, «конь ожил». Какой в этом смысл? Понятно, что конь из неживого стал живым, но так ли это живописно, как «реку сковал лёд» – такая же вещественная трансмутация. В «Багдадском воре» коня — собирают по кусочкам: достают иp футляра, показывают механизм, всем видно, что даже собранный, конь не настоящий. Следующий кадр уже не показывает поддельного коня, мы видим настоящего, но только живого, просто кадр стоит на паузе. С отпусканием этой задержки конь «оживает». Иногда Образ впечатляет лучше любых описаний.
Вполне оправдан вопрос, а что именно считать Кинообразом, ведь, с одной стороны, мы не можем обосновывать любую вещь, попавшую в кадр, и думать над её принадлежностью к смысловому полю фильма. Если мы этого не делаем, то рискуем упустить важное. Другой пример: «Чапаев» Братьев Васильевых, сцена гибели Чапаева в водах Урала. Первоначально предполагалось, что Чапаев погибает в бурной реке, волны неспокойны, по небу сверкают грозные молнии. Но тогда получалось, что Чапаева погубила бы стихия, сценарий и был в этом месте переделан.
«В картине мы видим другое: раненый Чапаев, теряя силы, плывет по спокойной глади, круг фонтанчиков от пуль сужается вокруг него. Тишина оказалась драматичнее бури». Но такова тишина в Языковом описании фильма, его концептуальном разбиении на значимые единицы смысла. Прочитав эти строки, фильм уже смотрится по-другому, кстати, в лучшую сторону. Но если эти смыслы Кинообраза не выделяются, то Образ, а вместе с ним и фильм, теряет в глазах зрителя значимость. Это большое упущение.

Никогда не зазорно перед просмотром фильма читать о нём отзывы и критику, даже если они раскрывают весь сюжет: фильм все равно снимается не для этого. Едва ли Тарковский понятен, если не переводить его в плоскость языка: чтобы понять самые сокровенные смыслы, нужно всего лишь проговорить, лучше вслух, что происходит на экране. Или постараться описать статичные сцены. Эта логика применима к большинству мастеров.
Скажем, Тарковский из всех режиссеров наиболее языковой, даже его кинометафоры выдают то, что на уровне сценария они были метафорами словесными. Линч тоже любит язык, и снимает сцены исключительно в соответствии с их языковой композицией. Вот только Линч похож на грузный и сухой доклад скучного политика или научную работу аспиранта, завязшего в абстрактных существительных. Формально идя по пути дискурса, понимаешь каждое слово и причину его сочетания с другим словом, однако никогда нет выхода на более общий уровень смысла. Если бы не его априорная пародийность и стебность, то вряд ли кто-то стал бы его смотреть.
Вот почему верны слова про то, что Линч — это для искушенных зрителей: надо иметь большой опыт чтения классических кинотекстов, чтобы знать, в каком месте их парадируют и тем самым получать маленькое, скромное, филологическое удовольствие: примерно также посмеиваются читатели Джойса, узнавшие в бесперебойном дискурсе «Улисса» отголосок другого текста.
Итак, как можно было выяснить, неоднозначность образа неизбежно возникает по двум причинам: визуальное не имеет четкой стратегии конвертирования в словесное, Образ может быть описан сотней разных способов, а, во-вторых, образ в игровом кино не хроникален: он запечатлевает специально подобранную реальность, а не просто документирует происходящее; однако если оставить в кадре только значимые вещи (например, вместо интерьера поставить только стол с яблоком, которое кусает герой), то это не будет соотноситься с кино как с искусством.
В кадре неизбежно: и значимое и незначимое, причем вопрос не только в том, чтобы отделить одно от другого, т.е. искать существительные, но и допытываться, как Образ существует (прилагательные) или что происходит (глаголы), словом, проводить проверку на всех возможных уровнях понимания. Ну и что, что Мартышка в конце «Сталкера» двигает взглядом вещи (глагол), важен сам её взгляд, её одиночество (прилагательное). Можно даже вслед за Делёзом, который проводил свои дихотомии на образ-движение и образ-время провести более ясные деления на образы-существительные, образы-мотивы и так далее…

Причем здесь мы никогда не убьем образ, его словесным отрицанием, образ становится только лучше, если, конечно, его описание сделано правильно. Скажем, если переводить в плоскость языка современный экшн, то это будет излишне, ведь значимым Кинообразом там есть только, как правило, Образ-мотив (зачем что-то делается; причинно-следственный каркас всего сюжета). Не скроем, что это весьма примитивно. Экшн имеет сродство с рекламным роликом: с виду он кажется афористичным и остроумным, но если перевести его в сферу Языка, не получится ничего, кроме бреда. Вот почему за изображением в ролике не стоит ничего.
Демонстрация товара и его волшебных качеств никогда не выглядит гармоничной или естественной; примером всему тому эти ролики, населенные странными людьми, которые радуются йогурту, хохочут полонению баланса на счете, а их дети со всей риторичностью менеджера не решаются склонять имена торговых марок.
Что же касается специальных эффектов, которые по логике могли бы быть образами-прилагательными, то они ими в данном случае не являются, ведь не несут смысловой нагрузки, не смешаны с незначимой реальностью, наоборот, она здесь ущемлена и репрессирована центральным образом спецэффекта. Хотя и здесь нужно быть аккуратным. Скажем, сцена нападения на из «Психо» и её крик такой же образ, как и летящая на поприще космоса космическая станция из «Космической Одиссеи» или драка Ясона со скелетами из «Ясона и Аргонавтов», это равно образы-прилагательные.
А вот сцена драки из «Звёздных войн» образом-прилагательным уже не является. Если угодно, это уже симулякр образа-прилагательного и чем больше компьютерного, тем больше симуляции, ибо тут уже нет значимого и незначимого, даже нет такого вопроса, раз всё может быть смоделировано и нарисовано. Тем более что зритель вычисляет этот симулякр, какой бы качественной графической проработкой он не отличался. Именно качество графики убивает нужные акценты. Скажем, глядя на левитирующую станцию из кубриковской «Одиссеи», замечаешь, что текстура станции настоящая, видны мельчайшие отблески белых деталей. В то же время, любой корабль из «Звездных войн» уже нереален и никакой графикой скомпенсирован быть не может.

Рекламный ролик или экшн не хочется вербализировать, поскольку в словесном его выражении теряется всё значимое. Но есть Образы, которые невозможно конвертировать из-за того, что зрителю приходится чувствовать смысл лишь интуицией, догадкой, никак не имея перед собой словесных подсказок. Скажем, образы из фильма «Огни большого города», финальная сцена.
Героиня на деньги, отданные ей непутёвым и таким же бедным, как она, Чарли, делает операцию на глазах и к ней приходит зрение. По скромности Чарли остается инкогнито. Девушка, торговавшая цветами, после получения дара зрения открывает цветочный магазин. Случайно она встречает Чарли. Кого мы видим? Чарли. Никак не изменившись в наших глазах, он по-прежнему остаётся скромным бродягой. Однако Девушка неожиданно узнает его, к ней ещё раз приходит прозрение (вот оно!): режиссёр заставляет нас ещё раз посмотреть на Чарли, но только глазами Девушки. В первый раз за фильм; и — узнать его. Ракурсы, жесты, выражения лица — всё безупречно.
Средствами изобразительности нам явлен образ, насилу ставящий нас перед конкретным смыслом, причем безо всякой словесности и, сохраняя амбивалентность. Если кто-то всё-таки не может уловить всей соли сцены или согласиться препоручить себя в руки самому фильму, то это уже вопрос о способности читать кинотекст как таковой, что лежит уже вне компетенции фильма.

Кстати, способность читать кинотекст немало зависит от способности мыслить словесно, что значит: быть обученным грамоте, уметь читать и пользоваться чтением и письмом в повседневной жизни. Маклюэн, рассуждающий о том, как слово влияет на перестройку всей понятийной системы сознания, показывает интересный пример. Африканцам, не знавшим грамоты, показали фильм про то, как надо соблюдать гигиену в поселении: вовремя выбрасывать несвежее, мыть руки и тому подобное. После просмотра у них спросили, что они видели. Поразительно, но все они указали, что видели в фильме курицу.
Исследователи были приведены в замешательство, ведь в фильме не было никаких куриц и, лишь несколько раз просмотрев плёнку, они увидели, что где-то случайно в кадре мелькнула курица. Примечательно, что мало кто из африканских зрителей понял, о чем идет речь в фильме, из всех значимых образов и смыслов они выделили лишь им знакомое — курицу, которая как раз-таки была незначимым элементом. Словом, они плохо читали кинотекст. Не ухватывали сути повествования и обижались, когда в какой-то момент героя, уже сделавшего свое действие, больше не показывали. Исследователи это учли и стали снимать фильмы, где Герой — если ему надо исчезнуть из кадра — исчезал так, как это происходит в жизни: заворачивал за угол, уходил из поля видимости, когда дорога ныряла за горизонт и т.д. Естественно, грамотные (обученные чтению) африканцы понимали фильм гораздо лучше, они словно усваивали некий общий принцип текстопостроения. Это ещё раз доказывает, что кино после того, как оно ушло от документалистики, стало искусством, структурой и текстом.
В начале мы поставили вопрос, есть ли такая стратегия мышления, посредством которой может быть передан только свой смысл. С одной стороны, ответ прост и на примере Образа это легко можно видеть: поскольку никакое описание на языке слов не способно заменить высказывание из образов, то оно содержит что-то непереводимое. Но мы пропускаем парадокс: если мы признаем, что в образе есть избыточность (а она действительно там есть), то она несет нечто, принадлежащее к смысловому полю, поскольку есть «что-то». Но если так, то нам надо назвать это «что-то», а если мы его назовем, то переведем на Язык, а это уже противоречие. В связи с этим можно переформулировать вопрос: есть ли внесловесная мысль?
Мысль и мыслительная деятельность вообще по природе связана с языком, например, с защемленным языком трудно понимать текст, а после долгого чтения может быть напряжены мышцы горла. Но то, что стоит ещё до языка, все же принадлежит к речи как к одному из проявлений мыслительной деятельности. Это внутренняя речь. В принципе, мы её и имели в виду, когда говорили о вербализации экранного изображения, ведь мало кто будет нарочно проговаривать увиденное, то есть структурировать и обогащать эту редуцированную речь.
Кстати, письмо намного сильнее, радикальнее структурирует внутреннюю речь, вот почему оно выступает помощником для рецензента. По своей природе внутренняя речь рассыпана и хаотична. Она вполне удовлетворяет сравнению Блока о том, что стихотворение — это своего рода простыня, натягиваемая на опорные слова-столбы. Так и во внутренней речи существуют лишь отдельные слова, что предполагает больший простор для их последующего упорядочивания. Иногда внутренняя речь может вообще обходиться без слов. Например, после чтения ритмичной поэзии сознание продолжает подгонять уже мои мысли к этому ритму. Имеется некая ритмическая модель, под которую подпадает всё словесное наполнение.
«Внутренняя речь тоже включает различные степени словесной оформленности мысли и, следовательно, кодовые переходы, но она всегда характеризуется по крайней мере некоторой первичной словесной оформленностью, которая затем, преобразуясь, достигает большей адекватности. Однако источник этого движения к большей адекватности и его коррегирующие импульсы не могут быть ограниченны сферой внутренней речи. Они хотя бы частично всегда «действуют» из более глубокого слоя субъективной реальности, в котором зарождается оригинальная мысль. Оригинальная мысль зарождается не в сфере внутренней речи (хотя и не без её содействия), и она оповещает о себе до того, как наступает её первичное оформление. Данные о функциональной специфичности правого и левого полушария показывают возможность диссоциации чувственно-образных и абстрактно-символических составляющих мыслительного процесса, что свидетельствует об относительной автономности тех мозговых нейродинамических систем (внутренних кодов), которые ответственны за субъективные состояния, протекающие на дословесном или внесловесном уровне»
(Д.И. Дубровский «Существует ли внесловесная мысль?»).
При афазии предмет «понятен» больному, хотя он и не может его вербализировать. Таким образом, смысл — более глубокое измерение, нежели чем слово. Возвращаясь к Кинообразу, можно сказать, что он вербализируется лишь отчасти, хотя может быть «понятен» абсолютно точно. Это относится также и к тем меланхолическим, романтическим, возможно, гневным состояниям сознания, спровоцированным образом. В общем, в этом и кроется его неисчерпаемость (т.е. отсутствие 100% перевода на другой язык). Поскольку Кинообразное и Языковое могут идти рука об руку, выходит, что самые лучшие сцены, образы и картины возникают там, где у языка есть больше всего шансов пробиться на поверхность сознания, но так никогда и не описать предмет восприятия.
Если резюмировать сказанное, то можно проследить закономерность Языкового и Образного. Приведем отвлеченный пример и рассмотрим жанр пародии. С одной стороны, пародист всегда стремится к копированию того, кого он пародирует и чем больше эту ему удается, тем лучше. Ему это должно удаваться даже лучше, чем положено, сверх меры, чтобы, как в карикатуре, гиперболизировать какие-нибудь черты. Однако, одновременно с этим, пародист никогда не должен быть похожим на объект пародирования: двойник Горбачева никогда не сможет спародировать настоящего Горбачева. Пародия — это парадоксальный жанр, потому что здесь мы встречаемся с двумя тенденциями, направленными противоположно друг другу: не быть объектом, но непрестанно стремиться к бытию этим объектом. Пародия тем лучше, чем сильнее это несоответствие.
То же самое и с кино. Чем больше у Образа будет возможных толкований, тем лучше, но одновременно с этим, Образ будет всегда уходить от развенчания Языком: материала должно быть меньше, чем его толкования. Означающего должно быть меньше, чем означаемого, как, например, в хорошей литературе или религиозных текстах. Именно такое кино достойно быть искусством десятой музы.
©Nevzdrasmion


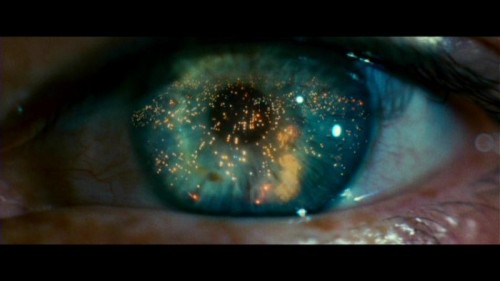







Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: