ЛАУТИР: АМУЧ ЫТ
Твердые домики тянутся к небу, каменные, кирпичные, смешные в своей неподвижности. Небо же, с первого взгляда потаенно живое, но на самом же деле мертвое, лишь кусок набрякшей серыми облаками пищи, растянутый над головой, не движется, не вздувается, не прорывается всполохами. Люди… Текут сладким полноводным потоком по улицам, не замечая, как я иду меж ними. Сахарные лица, гладкая кожа, карамельные глаза, но я держу себя в руках — не сорву ни взгляда, ни касания.
Не сейчас… Незримой тенью пересекаю дорогу, у кого встаю на пути — обходят, не бросая и взгляда, на кого иду сама — останавливаются в раздумьях, будто что-то забыли и пытаются вспомнить. Женщины чуют меня и беспокоятся, сами не понимая почему, дети не плачут, но жмутся к матерям, дергая их за юбки, не желают больше ни шалить, ни играть, ни жить.
А я скольжу по каменной вене, невидимая для здешней крови, а сегодня и не опасная; пусть они чуют меня, пусть знают, не произнося даже про себя, замалчивая даже от своих собственных пустых голов, что среди них зараза — пусть остаются в живых, это будет им моим подарком за тот, что сегодня подарила и что еще сегодня же подарит мне мама.
Одновременно с полной сладких людей улицей я все еще нахожусь и дома. Братья рядком выложены на подоконнике, чтобы всполохи от нашего неба падали на их бледные червяные тела, безрукие, безногие, на их сморщенные в капризных гримасках старческие лица. Я беру в руки одного — имен у них нет, — и сильно сжимаю. Он кривится еще сильнее, широко раскрывает рот, пытается кричать, но у него ничего не получается, только из еле прорезавшихся крысиных глазенок течет слизь.
Я тихо смеюсь, и от моего смеха тени вещей медленно движутся вокруг меня по кругу, крадутся по стенам комнаты. Я роняю братца на пол.
Сворачиваю в подворотню. То ли безумец, то ли выживший из ума старик, возлежавший на груде тряпья, в ужасе визжит, видя меня, вскакивает, бежит во дворы, размахивая руками. Я вижу на нем пустые метки: он был среди наших при последнем поветрии, но в последний момент не пригодился. Он запомнил наш вкус, он запомнил наш взгляд… Я чувствую, я вижу, что моя цель близко.
Я воздеваю взгляд к небу и вижу, что это действительно так: сквозь нависающие серые тучи человеческого мира уже проглядывают то скрещенные в странном узоре черные плоскости, то плоские острые углы, нависающие над землей и поводящие жалом будто в поиске добычи, то набухают бесцветные наросты, а то и просто зияют открывающиеся дыры.
Я ищу взглядом и вижу, как с неба опускается прозрачная тонкая нить — она падает на землю где-то в паре дворов отсюда.
Моя младшая сестра бьет тело отца. Он уже много лет висит в углу, приросший к стенам, но мы не даем ему потерять сознание. Зато он давно потерял человеческий облик: среди висящих кулями покрытых сизым волосом мясных мешков со сладкой жирной кашей и с солоноватой влагой уже нет ни рук, ни ног, остался лишь поросший сосками огромный волосатый живот почти у самого пола и отупевшее жирное лицо с мутными, как болотная вода, глазами.
Кулачки сестренки обычно врезаются в жирную щеку в одном и том же месте; зубов у него давно нет, а челюсть уже превращена в кашу с костяными обломками. Но избиения все еще доставляют удовольствие моей сестре, хотя сейчас она ведет с ним беседу в спокойном, даже несколько ностальгическом тоне.
— Помнишь, — спрашивает она, — Как моя комната покрывалась кровавой испариной каждое новолуние, а ты не позволял мне намазываться ею и входить в стены? Тогда Атти принесла нам зубастых камней, а ты не дал нам увешаться ими. — Отец безмолвствует, поскольку давно уже не умеет говорить, но сестра продолжает. — Ты же должен помнить. В тот день мои братики как раз вышли из меня на время, а ты тайно ловил их по одному, варил и ел, пытаясь продлить свою поганую жизнь. Отдалить момент нашего созревания.
— Она лениво пинает его в один из набухших сосков носком ноги.
— Ты думаешь, наверное, что это могло тебе помочь? Ты всеми силами сопротивлялся наступлению такого порядка вещей, который у нас есть сейчас. — Какое-то время она всматривается в лицо отца. Я вижу, как в ее голове проносятся воспоминания: как она, еще будучи Вещью, висела на его теле, питалась его соками, и он сначала всеми способами пытался содрать, соскоблить ее, но так и не смог.
Она качает головой, кладет ладонь на лоб отца и вжимает его в жировые наросты, давит его лицо. Очертания ее фигуры начинают дрожать, в комнате все начинает ходить ходуном: одни вещи уменьшаются, скукоживаются, обретают какую-то особенную четкость, их цвета становятся ярче; другие разбухают и оплывают, будто теряют трехмерность, зато линии, бывшие их контурами, остаются, они дрожат и вразнобой звенят, будто подвешенные в воздухе струны без самого струнного инструмента.
Тени в комнате закручиваются вокруг сестрички спиралью, ее лицо будто натягивается на схвативший ее за затылок кулак и приобретает, пусть само выражение и не меняется, особое свечение злобы и жестокости. Она творит слепое, исполненное ненависти делание.
Рот отца распахивается, точнее, остатки подбородка опадают на бывшую грудь, и раздается противный звериный вой. Его лоб вместе с рукой сестры погружается в стену, аморфное тело сотрясает судорога. Стены комнаты изгибаются, то тянутся к сестре, то будто отшатываются от нее. Моя сестра нежно улыбается. На самом деле, как я вижу, она всегда любила нашего отца.
Я благосклонно киваю. То, что должно случиться, будет сделано по обе стороны. И моя сестра не подведет меня.
Вот они. Прозрачная линия указывает на одну из фигур посреди двора, падает прямо на голову одного из небольшой компании. Это дети, они выглядят почти так же, как я, в том облике, что дала мне мама, за исключением разве что чумных черт. Я чую в этом ее взгляд. Единственный, кто выделяется — вожак, он чуть старше прочих, и именно на него падает ее путеводная нить.
Я ныряю в тени. Плоскость раскрывается для меня и затем смыкается вокруг, объем пропадает, и я скольжу, плоская змея, обрамляющая один лишь мой взгляд, все ближе и ближе к компании детей, чье присутствие ощущаю.
Мама не сказала, что мне делать, но она сказала, что сама поведет меня и направит — и вот, так и случается. Я чувствую: мне нужен он, маме нужен он, и она возьмет его мною, хотя, на самом деле, ей каким-то образом через все это нужна только я.
Они не обращают на меня внимания — хоть они и дети, но теперь я скрываю свое присутствие, собрав всю себя воедино так, что ни одной черной соринки не оторвется от меня. Из плоского убежища всего в паре метров от них, — хотя зачем бы мне могло понадобится от них убежище? – я вырастаю уже действительно настоящей черной змеей.
Я действую столь быстро, что даже будь у них знание о моем присутствии и умение чтобы бороться или бежать, то даже просто скорость их тел и мозгов не могла бы им позволить среагировать вовремя. Я вытягиваюсь в линию и касаюсь его сердца, где заканчивается мамина путеводная линия — и касаюсь ее тоже. В этот момент что-то происходит.
В тот момент у меня будто вздрогнул взгляд, будто я моргнула, не имея в тот момент не то что век, но даже глаз. Я что-то вспомнила? В его сердце я почувствовала нечто знакомое; я видела его вовремя последнего поветрия? Нет, он настолько молод, что, скорее всего, не застал его и в младенчестве. Я видела его во время последних вылазок? Нет, я точно вижу его впервые. Но что же я вдруг вспомнила и сразу забыла, отчего вздрогнуло все мое существо?
Сестра любовно выкладывает все на столе. Она отрезала от отца остатки головы, это не помешает его телу кормить нас, вырезала язык и отложила глаза. Она принесла откуда-то засушенные его пальцы, зубы она, оказывается, тоже сохранила в специальной банке — а ведь она выбивала их чуть не по одному. Она даже давным-давно вырезала и засушила его сердце и член. Она обходит стол и мягко целует меня в лоб.
— Мама говорила мне о том, что мне сейчас нужно будет сделать, уже много лет назад, — Шепчет она мне на ухо. — Слышишь, как кричат наши братики, как они варятся в кастрюле? Я рожала их именно за этим. Так велела мне наша мать. Ты всегда была моей любимой, самой любимой сестрой… Я с радостью сделаю все, а ты, может быть, однажды повторишь это для меня.
Она запускает голую руку в кастрюлю, вынимает из кипятка одного из братьев. Улыбаясь, почти счастливо смеясь, она откусывает ему голову и льет черную кровь на лицо отцу. Он открывает пустые глазницы и разевает рот, пытается дышать, как вытащенная на сушу рыба. Его пальцы дрожат на столе, и я вижу, как сестра сдвигает их со своих мест — наполненные ее вниманием, но своей волей, они ползут к голове отца, будто большие черви, а сестра осыпает голову отца его же зубами, которые не только врастают прямо в кожу, но начинают расти и удлиняться. Его сердце снова бьется, прямо на столе…
— Но ты не увидишь, как я закончу, потому что мы уже провели почти весь подготовительный ритуал, хотя остается очень важная его часть. — Шепчет она. — Сейчас, милая, я знаю, ты отсюда исчезнешь. Но мы скоро увидимся вновь.
Я не совсем понимаю ее, но верю ей, как всегда, безоглядно. Потом я вдруг понимаю, о чем она говорит — ведь я вспомнила… Что?!
Около компании детей случается странное: вдруг прямо в воздухе разворачивается небольшой черный смерч, в котором с треском лопается маленькая молния. Нечеловеческий взгляд мог бы уловить, что в самое первое мгновение смерч имеет очертание женской фигуры, и лишь затем закручивается темным водоворотом. Да смерчик и существует-то лишь пару мгновений, а потом вместо него на землю падает девочка, двенадцатилетний, как и большинство детей в компании, подросток, в рваных тряпках, хуже чем у любой нищенки, с висящими паклей волосами, с обезумевшим взглядом. Секунду она сидит на земле и пытается вздохнуть, из глаз ее бесконтрольно текут слезы, она в шоке. Но дети опомнились быстро.
— Ведьма! Среди нас зачумленная! — Кричат они.
Почему память подводит меня? Я смотрю на левую руку, не прекращая бега: она медленно плавится и разбухает одновременно, становится большой, раздутой, но это обилие моего собственного мяса тут же растворяется, будто в кислоте. Я ничего не могу себе позволить, кроме как тихо хныкать, прямо на бегу: грудную клетку сжимает спазм, по лицу бегут слезы, дыхание учащается — но мне ведь приходится бежать, бежать, бежать! А я не могу даже вспомнить, что только что случилось с моей рукой — ведь еще час назад она была цела.
Преследователи не отстают от меня. Я бегу уже через знакомые дворы, близкие к Стене, близкие к Двери, дворы, через которые эти дети еще наверняка никогда не ходили — возможно, это мой последний шанс. Я перепрыгиваю лужи темноты, но и они поступают также, минуя тварей, что таятся внутри; я знаю, к каким деревьям можно приближаться, а к каким нельзя, и лавирую между опасным и безопасным – но и они понимают, что я не самоубийца и преследуют меня все равно… Они постоянно останавливаются и кидают в меня камни — я не знаю, как уворачиваться, а они меткие — иначе как бы они подбили этих двух голубей, которых я теперь тащу под мышкой как самую великую драгоценность?
— Прокаженная! Проклятая! Убирайся в свой поганый район! Возвращайся в свой проклятый Чумной Город! — Визжат они. И я бегу, бегу — и вот уже совсем немного осталось, всего пара дворов — как брошенный камень попадает мне прямо в спину. Я падаю и кричу от боли, преследователи окружают меня; они не спешат приступить к избиению — но в руке у каждого из них по большому камню.
Я плачу от боли и понимания того, что сейчас случится. Я уже смиряюсь со своей болью. Неужели мне придется вернуться? Здесь, где небо просто пустое и хмурое, лишенное мерзости и боли, а иногда даже и светло-серого оттенка, опять стать? Ведь всего несколько минут назад, как раз когда в голове у меня помутилось и заболело, будто лопнула какая-то невидимая струна где-то под черепом, я поняла, я увидела в чужом сердце что-то такое, отчего мне не захотелось более возвращаться — только я поняла, зачем пришла, как мне приходится…
Я неотрывно смотрю в лицо главного преследователя, самого старшего из всех. Он высокий и красивый, у него ладная, почти без дыр, одежда, у него гордое сильное лицо и никаких отметин, наростов, лишних деталей. Во всем своем молодом и красивом теле он — один. Он смотрит на меня с отвращением и непониманием, как и все они, не торопясь убить — а ведь они именно убьют меня, а не просто побьют, и, может, даже получат за это награду. Он хочет понять, что я такое… Но он не поймет. А потом он все равно убьет меня без сожаления, как отвратительную тварь и пародию на человека.
И я вспоминаю слова, которые говорила мне мать в ту радостную ночь, когда я перестала быть просто никчемной Вещью, слова, которые всегда позволяют мне быть дома, дома, с мамой… И в моей голове звучит песня, на которую ложатся эти слова, исступленная песня с рваным, специально сбивающимся, извивающимся ритмом, и я уже не тяну смысл из слов мамы, он уже сам течет и струится из меня.
Главарь, которому я смотрю прямо в глаза, издает вздох-вскрик, он не знает, но всем своим нутром чувствует, ЧТО я сделала. И тогда я беру его, я тяну его на себя, я вхожу в его чистоту, его твердость, силу и уверенность в себе, и я вхожу, я ныряю в его качества и мысли, как микроскопический вирус из лезвий и гноя попадает в бассейн из масла и молока плоти.
И я превращаюсь в молниеносно движущегося плоского зеленого червя, в изгибах чьего плоского тела мерцает мой собственный протухший взгляд, который обволакивает моего любимого мальчика. Червем я пронзаю его, нанизываю его части на себя и смыкаю их вокруг его чистого, человеческого света, которого он никогда и не видел — света, который и охраняют от таких как я люди, сами не понимая, что делают. Он уже никогда не выберется из ловушки себя, твердым коконом сомкнувшейся вокруг него. Тогда я впрыскиваю яд.
Мои дети, многие‑я, кричат и беснуются, размножаясь в каждой его части, плодясь и растаскивая его на кусочки, и каждая его частица — каждая его клетка, каждая капля потока кипящей молодой силы, каждая мысль, каждый обрывок сумбурных воспоминаний, каждое запомненное лицо, каждая тайна его сердца, каждая ненависть и каждая радость, каждое мгновение осознания — становится новой мной, утекая из его рук.
Я лишь несколько секунд спокойно созерцаю изнутри него его — теперь мои! – онемевшие конечности, трогаю еще не сдавшееся сердце ледяной рукой спазма, дышу ему в мозг горячей заразой. Я не могу взять его мгновенно, но это мне не помешает, ведь он уже не в состоянии даже кричать. Он корчится на земле, и сумерки, в которых я видела его лицо, уже обратились в вечную красно-зеленую тьму Чумного Города, которая станет ему могилой.
Однако я сошла в Чуму не там, где стоят Двери, а там, где пришлось, и у этих детей еще будет шанс со мной расправиться! Но где же их камни? Почему они еще не размозжили мой череп?
Нет, они ничего мне уже не сделают. Камни в их руках стали мягкими и текучими, они изменились, как меняется всякое неживое, что сошло в Чуму, пусть даже еще не полную: обладая множеством ртов, они уже вгрызаются в покрытые ими чуть не до локтей детские руки.
Дети кричат, они в панике — им непонятно, что случилось, почему мир взорвался адом и болью за почти квартал до опасной границы, они уже не могут соображать даже просто от физической боли. Еще бы — даже воздух моего Города жжет им легкие. Они бы и рады перемениться, подчиниться месту, в котором они — ничто и должны играть эту роль, но даже этого они сделать не смогут.
А все потому, что я сдвигаю мир долго и прямо вместе с ними, секунд тридцать, наслаждаясь их воем, и за это время в щели, что возникли между личностями, телами, умами и душами детей успевает набиться столько живого и неживого, что когда Чумной Город, наконец, подходит к нам вплотную, я сама смотрю на них с восхищением: лишь один превратился в колонну медленно сползающей наземь слизи, полнящейся самоосознающимися живыми, другие же развалились на несколько кусков, каждый из которых облюбовали себе местные бесплотные духи, поселившиеся каждый в своем обрезке, активно отмежевавшемся от остальных.
Несколько даже успели умереть, к моему удивлению, более качественно: не попали к нам в рабство, а просто скончались от каких-то внутренних причин до того, как мы прогрызли вход внутрь них. Это ничего: их трупы тоже послужат нам хорошую службу.
Но мой любимый… Мой любимый… Он все еще здесь, он все еще со мной, и я чувствую его — ведь его солнце, не такое, как у нас, главная добыча всех моих братьев и сестер, что наполняют теперь других детей — оно не ускользнуло, не стало чужим трофеем, нет, оно не похищено у меня — оно окружено мною, окружено сомкнутым строем моих я.
Его плоть, — тело, эмоции, мысли, сознание, это крепость, окружающая и вмещающая его самость, и над этой крепостью теперь мой и только мой флаг. И я пью его, я пропускаю его сквозь себя, а себя — сквозь него, и я греюсь в его лучах, я пронизываю себя его светом, вхожу в его свет, существую его светом, в котором так славно нежиться, который так сладко заразить собой, в который так сладко заползти и свернуться в нем, склеить его своим присутствием, заткнуть собой отверстие, через которое он струится!
Свернуть его, как молоко сворачивают мои младшие братья. Так сладко принять и извратить, измять, продавить, искалечить собой, присутствием своим втягивая его, постоянно нового, источник вечности, снова и снова.
Но вот, наконец, приближается последний рывок. Чтобы сделать шаг обратно в Город, Город как способ существования, недоступный детям, которые потому и изменились столь страшным образом, мне нужно пересечь пелену, отделяющую его даже от этого пригорода, пересечь Стену. Я скольжу еще чуть-чуть дальше…
Погода в Городе очень хороша. Кричащее небо, корчащееся тысячами прорезающихся, пронзительно ревущих и схлопывающихся или рвущихся ртов, успевающее кинуть пару взоров возникающими и тут же с треском лопающимися глазами, сегодня волнуется даже больше обычного. То и дело его смерчи-жала обрушиваются на землю, на Город, с треском врезаясь в постройки или выхватывая с земли кого-нибудь живого.
Из возникающих прорывов его плоти лишь изредка падают на землю багряные или пронзительно-зеленые лучи приглушенного, наверное, отраженного света. Я чувствую, наконец, что вернулась домой, и беспорядок в голове-таки кончается — я собираюсь воедино и окончательно вспоминаю, кто я и зачем я есть. Вспоминаю маму, сестру, сцену с отцом… Но и то, что было и остается в плененном мною сердце, я помню тоже.
Однако внезапно небо над моей головой лопается, и верещит оно от этого сильнее, чем обычно — взрыв для него самого, видимо, неожидан. С неба падает нечто, напоминающее разве что черную звезду, не светящуюся, но будто всасывающую в себя свет. Мне кажется, будто само пространство изгибается, всасываясь внутрь этого завораживающего чуда! В метре надо мной звезда будто бы исчезает, перекрыв своим черным сиянием тусклый ало-зеленый свет… Но я чувствую, что она никуда не исчезла. О нет.
Улица, мгновение назад уходившая вперед, сворачивается вокруг меня и тела Любимого в спираль, подобно испуганному червю, на чьей спине я стою. Город явно что-то хочет для меня — ведь раньше моего присутствия если и хватало на то, чтобы толкать пространство или Сдвигать с Мест некоторые Вещи, то такого я сделать никак не смогла бы!
Дома вокруг меня сначала смыкаются из-за столь резких движений улицы, затем они с грохотом смешиваются, крушатся, ломаются, напирают на меня со всех сторон, но кирпичи не крошатся, а сливаются и сдавливаются, будто расплавленные, Вокруг меня как вокруг точки притяжения. Их материя закипает, бурлит, а затем формирует вокруг меня залу, слепленную из искореженных стен, тротуаров и крыш, с которых течет мне под ноги кровь, образующая узор алфавита, который меня еще не научили читать. Язвы, покрывающие плоть раздавленных домов, кричат, пока их рвут, низкими гортанными голосами, духи болезней, живущие в них, пытаются выбраться, но — бесполезно, они уже оказались в чьей-то воле.
Небо, успевшее зарастить рану, смотрит сквозь вершину образовавшегося колодца, выпустив несколько щупиков, будто испуганный зверь, ожидающий повторного нападения.
Это явно делаю не я. Чье-то присутствие направляет перемены в мире вокруг меня, кто-то совершает эти странные манипуляции намеренно… Я вдруг чувствую сильный спазм в грудной клетке, но уже в следующую секунду боли не остается — в моей груди разливается звенящая прохлада чистого наслаждения и радости, будто каждое следующее мое желание будет немедленно исполнено, и никакая жажда, будь это даже жажда до любви или света, не останется неудовлетворенной ни секунды. Будто теперь есть кому позаботиться обо всем-обо всем.
Духи, выдавленные из язвенных прыщей вместе с гноем, крича, ликуя и славя Чуму, текут вокруг меня. Их тела, тела насекомых, животных, людей или гибридов, единые лишь в материале, из которого состояли, единые в мертвом, но движущемся, сначала закручиваются водоворотом, а затем поглощаются, не прекращая страстных благодарственных молитв, в четырех источающих холод трещинах, больше всего похожих на застывшие вертикально от земли до самого неба черные молнии, которые располагаются на вершинах окружившего меня идеального квадрата.
— Не смущайся и не бойся, дитя мое, — Говорю я, понимая, что так и должно быть. — Сейчас ты все поймешь.
И тогда я снова ощутила знакомое, а не новое, самое родное, самое лучшее, самое любимое присутствие — присутствие моей мамы. Если она здесь — значит, все идет не просто верно, а даже идеально. Я плачу, принимая ее душу, выходящую не из разорванного неба, а из каждой точки пространства вокруг в себя.
Я отдаюсь ей, а она приводит меня к себе — и вот я уже смотрю не на месиво мясного кирпича, крови и колдовства, а на Ритуал, чьими орудиями он творится его вокруг меня. Подо мной, надо мной, вокруг меня, во мне — бесконечная черная бездна, я в центре квадрата с четырьмя высокими черными фигурами на углах, а передо мной — вышедшая из меня Черная Звезда, высокая Мать и сестра с чем-то, скрытым черным шелковым мешком в руках. Я кладу руку на голову Любимого — и сама чувствую свое прикосновение.
— Наше Солнце взошло и вот, мы начнем наше делание на благо нашей дочери, — Произносит мать.
— Чума никогда не началась, чума была всегда, и сначала была чума, — Громко говорит первая темная фигура.
— Чума никогда не кончалась, чума была постоянно, и сейчас есть чума, — Произносит вторая.
— Все, что есть, есть лишь чума, которая сама бывает заражена, из-за чего возникает существование, — Говорит третья.
— А поскольку существование ложно, то вспомним, что чума никогда не была, и теперь не будет чумы, — Завершает четвертая фигура.
— Бывшая душой, моя дочь вошла в меня. Вышедшая из меня, моя дочь снова пришла ко мне. Будь со мной снова и снова навсегда, — говорит моя мама.
Она пересекает границу квадрата, ломая его. Черные фигуры подаются в стороны, изгибаясь, повреждение квадрата — их смерть, но они не смеют сойти со своих мест. В маму, чья фигура потеряла все краски и теперь только пульсирует холодом и темнотой, входит сестра, их руки вместе поднимают шелковый мешок, протягивая мне. Черная звезда входит в их головы, светит из их глаз, ловит мой взгляд и снова сливается со мной.
Тело моего Любимого начинает, как марионетка, к которой приноравливается мастер, взмахивать руками и ногами, затем она вздрагивает, подпрыгивает, становится между мной и мамой-сестрой. Они сдергивают мешок — голова отца, с широко открытыми во рту глазами, поросшая зубами, с пульсирующим сердцем, с визжащими от боли остатками сознания, беспрепятственно входит в грудь Любимого, и загорается его душой. Молодое тело оплавляется и разваливается — его Солнце заключается в мерзкую, оскверненную оболочку.
— Теперь пусть чума съест души, — Говорится в ритуале.
И любовь к этому свету переполняет меня; черная звезда, зияющая в моей груди, обращается к Солнцу, что дрожит в обезумевшей голове моего отца. Я раскрываюсь бесконечной черной пастью, что сошла в меня с неба, и кроме этой пасти во мне более не остается ничего — и в ней исчезает чужое Солнце.
Город людей это прекрасное место. Я без всяких преград теперь могу жить здесь, смотреть на сладкие потоки улиц и даже пить человеческую кровь — надо лишь тщательно скрывать под одеждой порезы. Мое новое тело служит мне безупречно, оно сильно и молодое, и, кажется, будет оставаться таким еще долго. А даже когда оно начнет умирать — что помешает мне снова и снова возвращаться домой?
Все, что мне нужно, это снова найти кое-кого, на кого укажет мама.
И тогда я рожу своей маме того, кто нужен этому пока еще устойчивому, недостаточно живому небу.
© Chmnoy, 2011

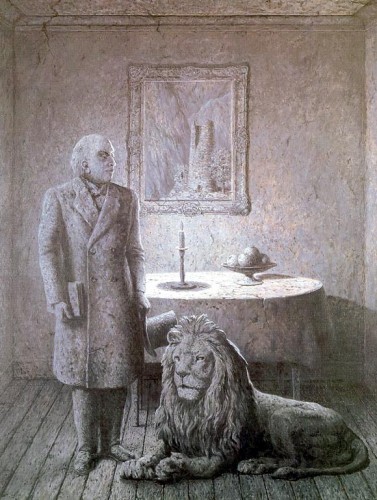






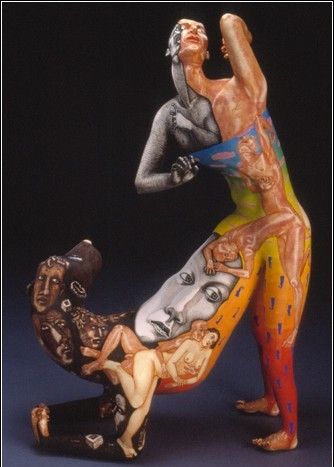
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: