Гнойный пляска на крыше Самое Главного Здание
Скажи, как твое струящееся змеиное тело
может изобразить источник света? Я
уверен, Клетка, что никак не может, и ты
лишь согласишься сам с собой, когда
я подумаю это тобою. Ты – лишь Гатоблеп,
но я даже не подниму твоей головы,
чтобы взглянуть в твои глаза.
Каждый раз, когда в этом месте восходит Солнце, я встречаю его на этой крыше. Самой высокой крыше нашего Города, крыше самого главного здания. Вы когда-нибудь бывали на этой крыше? Обязательно наведайтесь! Мне-то что, я тут привязан, никуда отсюда и отлучиться-то не смогу, даже если захочу — а вот вы приходите обязательно.
На самом деле у нас здесь нет никакого неба, поэтому и Солнца нет. Вместо неба у нас — стена. Вместо солнца, впрочем, тоже, да и вместо меня, если подумать. На самом деле тут вообще ничего нет, кроме стен, и даже рисунки на стенах — тоже стены, и даже взгляд на рисунки на стенах — тоже стены. Откуда, спросите вы, здесь может взойти Солнце?
Каждый следующий момент волшебен в своей иррациональности и нисколько не вытекает из предыдущего, каждый следующий момент может стать безумием, разрушающим разум. Наша единственная надежда состоит в том, что безумие каждого следующего момента — не стена. Поэтому…
Поэтому Солнце восходит.
Мне кажется, что это не настоящее Солнце, хотя свет его — вполне настоящий. Еще когда его сияющая крона осветила алые небеса, я понял, что сейчас произойдет… Жуткий, пронзительно-потусторонний скрип раздался над Городом, превратившись тут же в глобальное, оглушающее не хуже близкой взрывной волны ощущение перемен. Это небо, дрогнув, заскользило по направлению к земле, заскользило в тот самый момент, когда его коснулся самый краешек сияющей короны Солнца.
И небо упало, разбившись на миллион кусков, и каждый кусок твердого, застывшего неба завыл, зарычал, закричал, застонал, завопил, восстал и вцепился напрасной, но болезненной для всех хваткой длиннющих когтей в каждую точку, каждый атом, каждый момент Города. Вечный предсмертный пот, покрывающий стены зданий, закипел вместе с гниющей свернувшейся кровью, здания изгибались и тряслись, крича на своем непонятном языке, земля раскрывала и закрывала сотни голодных ртов, грозя поглотить Город. Бесчисленные жильцы этого места покрыли улицы, стены, крыши как тараканы или крысы, ищущие выхода из катастрофы. На какой-то момент мелькнул истинный облик Города: мясная Земля, мясные дома, разбившееся мясное небо, миллионы отпочковавшихся мясных паразитов, покрывающие все это…
Осколки тверди небесной то обретали форму рассерженных, гневно жужжащих насекомых, то становились лишь обрывками алого огня, они то впивались в живые стены, отрывая от них кровоточащие куски, то ловили паразитов-жильцов, раздирая их на части, то дрались и сношались, иногда одновременно — пока Солнце, показавшись полностью, не сфокусировало свой сияющий зрачок, превратив Город в расплавленный, заживо горящий Ад.
Тогда Город, над которым взошло и воссияло едкое химическое Солнце, нанес точный и жуткий удар, и я встал между липким Адом и возможностью выйти из этой преисподней.
Конечно, как верный сын и яростный духовный подвижник, я никуда не вышел. Место сына и подвижника — в Аду, воистину, в самой глубокой могиле и в самом поганом вертепе.
Я прекрасно живу в своем Городе.
Черные трещины его камня прекрасно подходят, чтобы прятаться от любого светлого блика, заблудившегося во Вселенной, его высокие стены скрывают меня от ненужного внимания, а бесконечные зеркала переулков демонстрируют мне мое величие и нескончаемый, нескончаемый, нескончаемый прогресс.
О!
Нескончаемый!
Я не понимаю, но при звуке этого слова тело мое сводит болезненно-сладостной судорогой, я корчусь будто во множестве оргазмов и при миллионе самых жестоких пыток одновременно. Нескончаемый!
Другое прекрасное слово: неизбывный! Нескончаемый и неизбывный — стены дрожат от моего воя, зеркальные отражения колышутся, будто белье на ветру или подобно картинке неотрегулированного телевизора. Когда я говорю «Нескончаемый», то Город будто раздается вширь и в длину, а когда говорю «Неизбывный» — набирает глубину и вес.
Нескончаемый! Неизбывный!
Фигура в черном снова выползает из-за поворота. Из-под черного капюшона драной мешковатой мантии струится густой дым. Я помню его: он мой друг? Или он мой враг? Но я знаю его очень давно, это он однажды сказал мне эти два слова! Теперь он говорит мне еще что-то… Да, он шепчет, но так, будто скорее сипит, свистит, будто шептать пытается змея! Он шепчет…
Неотвратимый!
Мое тело пронзает еще более сильная судорога: будто по костям моим проскакивает молния, будто по десяткам позвоночников бежит ток: это миллионы синих значений наполняют меня из Слова! Сотни моих рук, мужских, женских, детских, старческих, тянутся к черной фигуре, сотни моих лиц корчатся от боли, удовольствия, возмущения, злобы, благодарности, гнева, ненависти, нежности, любви. Копыта и ноги, щупальца и плавники резво несут меня к нему, но каждый раз он оказывается не у ближайшего, а у следующего поворота. Я успеваю пересечь половину Города, прежде чем он уходит за свой угол. Куда он ушел, мой единственный друг, единственный, кто тут еще есть кроме меня? Я вою тысячей глоток на тысячу лун, но знаю твердо: он вернется только со следующим Словом.
Неотвратимый, Неотвратимый! Я встаю во весь рост. Рога мои задевают луны. Головы мои, раскачивающиеся на длинных гибких шеях, столь многочисленны и разнообразны, что напоминают крону раскидистого дерева. Мои конечности столь сильны, что подобно корням уходят прямо в глубины реальности. Я — центр центров, серединная точка точки, я — сердце, душа, мозг, солнце, я — это Я, Праведник, Защитник, Герой: вот что теперь дал мне мой Друг!
Сначала Друг сказал: Нескончаемый, и Город расцвел вокруг меня, подобно серой розе со мной как сердцевиной цветка!
Потом Друг сказал: Неизбывный, и я вошел в Таинства его и глубину, в его сокрытое сияние и лабиринт моргов!
Теперь Друг сказал: Неотвратимый, и я стал Посвященным и Знающим внутри этого Таинства! Форма моя набрала смысл и глубину, руки и ноги мои заныли от невыплеснутой силы, в головах вознеслись вихри плодотворнейших мысл…
Ой, я шишку на лбу об угол дома набил!
Теперь Я — Посвященный! Я с радостью смотрю на свой Город, раскидывающийся у меня под ногами! Я гордо шагаю по улицам меж домов, без проблем перегибаясь через крыши и заглядывая в дворики. Я снисходительно-ласково льну к каждому, кого встречаю: кто-то гладит меня по голове, кто-то устало улыбается, кто-то даже кидает мне монетку, и это так наполняет радостью мою жизнь!
Я подпрыгиваю, неумело смеясь, хотя мой смех не походит даже на лай полумертвой от рака собаки, кидаюсь за монеткой, а вокруг еще столько тех, кто готов смотреть на меня, любить меня, холить, лелеять меня. Морщась от моего смеха, кто-то, проходящий мимо, сильно бьет меня, хрипло матерясь, по искалеченным, тонким, как палки, ногам, и я лечу наземь, но не обижаюсь: ведь он тоже увидел и оценил меня! Сотни глаз смотрят на меня отовсюду, сотни рук гладят меня, ласкают меня.
Они окружают меня. У кого-то разделочный нож, у кого-то топор, у кого-то ножовка, у кого-то заостренный камень… Они набрасываются на меня все вместе, и я, радостно смеясь, отдаюсь им, сияя от нежности и счастья: скольким людям я нужен! Сколько зубов одновременно впивается в мое сочное мясо, сколько губ целует мою кожу, сколько языков ласкает меня, сколько желудков наполняется мною! Каждый удар — признание, каждый треск раздираемых мышц — комплимент, каждый звон лопающихся сухожилий – поцелуй, шелест рвущихся волос — нежное поглаживание любимого, разбитые кости подобны смятой одежде у любовного ложа.
Главное ведь творится не с телом моим, а с душой — потому и главный магический акт — чуть поодаль от моего расчленения, где я держу в руках свое сердце, а из-под мантии моего Друга все струится и струится в него плотный черный дым, отчего я смеюсь, и смеюсь, и смеюсь, пока весь этот прекрасный Мир не рассыпается, ыпается, ается.
И остается только мой больной, больной радостью и любовью к Городу смех!
Мы с ними сидим на кухне. Я, он, она и она, и еще, кажется, есть пятый, но он походу присутствует продольно, т.к. спит в комнате. Хотя, может, его и продольно нет? Или все-таки есть?
Второй сидит напротив меня. Наше общее выражение лица напоминает выражение лица шлюхи, которая забылась сном про безоблачное невинное детство и вот, очнулась, наебнула паленой водки и, отрыгнув, с насмешкой над собой и прочим говном (а что есть в мире кроме говна?) ждет клиента каждой‑с клеточкой‑с своего тела‑с, особенно пиздой, конечно.
Собственно, познание женщины — это познание Вселенной, так что женщина есть Тайна. А какой еще может быть Тайна такого мира? Такая тайна может быть заключена только в циничной ухмылке дешевой шлюхи, конечно же.
Конечно же, говорит Артур.
Конечно же, говорит Иеремия.
Ребята, мы снова вместе, у‑у!!!
Так что вы говорите, зачем был построен этот замок, конечно же, замок?..
Мне больно. Боль имеет два источника: внешне это химическое солнце, которое светит, казалось бы, вообще отовсюду, поскольку источником имеет непосредственно мой взгляд, а внутренне — та огненная жемчужина, которую я соткал из света химического солнца вокруг одной соринки своего эго благодаря вниманию и концентрации. Какой я, оказывается, труженик, право!
Хотя я всего лишь лежал брюхом кверху и ничего не мог сделать, так что вместо меня, видимо, кропотливо работал кто-то другой.
Момент. Теперь я смотрю на ситуацию несколько иначе, будто это письмо, написанное мне. Я вне ситуации, несмотря даже на то, что в ней ничего, кроме меня, нет, и она сделана из меня, как перчатки из еврея посреди второй мировой.
Господи… Перчатки. Евреи. Мировая война. Какое ублюдочное доброе утро в этом прекрасном двухкамерном аду! Хорошо хоть не одиночка. Мировая, перчатки, евреи, война — как там, «Нескончаемый»?.. Я сгибаюсь от боли. Что со мной такое? Быть может, в этом письме-ситуации будет написано?
«Добрейшего тебе никогда,
глубокообсасываемая моя Алиса-Армян-Армен!
Алиса-Армян-Армен, зная о твоей обворожительной привычке строить свои планы в нигде ни для кого и никогда их не исполнять, с восторгом желаю тебе ничего! Собственно, писать тебе я не собираюсь, да и сказать мне тебе особенно нечего, однако что-то все же я не удержался и вот, написал тебе письмо — хотя бы просто, чтобы спросить
Ну и как тебе у нас в Зазеркалье? Сюда ли ты стремилась, сюда ли ты шла? Так или иначе,
Добро пожаловать.
Алиса-Армян-Армен, помнишь, как ты облилась горячим потом, после того как перечитала свои записи о Чумном Городе? Вот те строки про труп, который не может родиться, поскольку он уже мертв, но зато может раз за разом умирать сам в себя бесконечной цепочкой как эдакий перевернутый Феникс? Сказать честно, я даже почувствовал, как ты толкаешься у меня в животике, набирая очередной цикл самоумирания!
Алиса-Армян-Армен, помнишь, как выйдя в лабиринт, пусть даже и всего из одного прямого хода коридора к двери, в его конце, в зеркале ты увидела огромный безобразный труп с двумя зияющими черными пещерами, откуда еще и валил черный дым, на месте глаз, которые немедленно превратились в рваную дыру в стене какого-то дома? Ты поняла, я надеюсь, что это был не дом, а целый Город? Больной, зараженный Чумной Город?
Алиса-Армян-Армен, а как тебе понравилось, собственно, войти в наше Зазеркалье? Ты годами увешивалась снаряжением, подбирала орудия и оружие, оттачивала навыки, разведывала территорию, искала проходы и находила пути отступления, планировала перегруппирования и думала, что медленно, но верно продвигалась вперед. А потом ты сделал шаг, и он оказался вообще первым…
Алиса-Армян-Армен, а ведь в самый прекрасный момент, когда ты все-таки выпила из бутылки с надписью «выпей меня» и съела то, на чем была надпись «съешь меня», ведь в тот момент ты лопнула как мыльный пузырь! Ты увеличилась до таких размеров, что пути отступления стали тебе ужасающе малы, и ты уже при желании в них просто не втиснешься, и ты уменьшилась до таких размеров, что самое верное оружие ой как не сразу снова стало тебе по руке.
Алиса-Армян-Армен, а помнишь, как ты, чуть не воя от боли в беременном твоим трупом животе натужно, но весело смеялась, как узник ада, подвешенный над неугасимым огнем? Ты сама понимала, что смех твой противоестественен, и все-таки продолжала смеяться и даже веселиться, продолжала плясать и корчить рожи, продолжала вставать в позы и произносить фразы.
Алиса-Армян-Армен, а ты помнишь свой звездный час в то утро? На пол тогда упал крючок, и ты подняла его, будто склонившись в поклоне, с натужной вежливостью предложила его тому Черному Колодцу с непонятными размерами глаз, а тот принял его, с деланным восторгом рассмотрел его, с величайшим пиететом поклонился в ответ, потом еще и с теми же ужимками вернул его тебе. Ты повесила его на место, но с таким, усилием, что он немедленно упал на пол.
Нечего и говорить, что вы продолжили это представление сначала и могли бы продолжать вечно, но Алиса-Армян-Армен, ведь тогда твой взгляд упал на стол, у которого вы так плясали, и на нем ты увидела объедки. И поняла, что вся твоя жизнь — такой же заводной спектакль под неестественный собственный смех совсем, совсем не к месту в этой Долине Смерти. Единственное, что ты до сих пор не поняла, так это то ЧЕЙ это все-таки стол и кто на нем оставляет объедки.
Алиса-Армян-Армен, но ты поняла, что объедки
остаются
от
ТЕБЯ
Во всех смыслах этого заявления, как в том, что объедки оставляешь ты (ну то есть, как мы оба понимаем, я и нутыпонелактоеще), так и в том, что объедками ранее, собственно, и была ты (ну то есть, как мы оба понимаем, я, но не нутыпонелактоеще).
Алиса-Армян-Армен, а помнишь, как реальность плавилась и текла под твоим взглядом? Ты так и не поняла также, кто бросил тот огромный камень, который ты не сумела схватить и от которого по воде реальности пошли такие мощные волны. Может, это был привет материи своему Богу? В любом случае, если ты еще не поняла — привет этот получил не Он, а я (ну то есть, как мы оба понимаем, я и нутыпонелактоеще).
Алиса-Армян-Армен, мои дела идут как никогда хорошо. Какие двадцать минут, какие шесть часов? Каждый день ты теперь ощущаешь, как я кушаю твое время без соли и перца, заедая твоим вниманием уже которое десятилетие! К сожалению, однако, я все никак не могу насытиться, ну что ты будешь делать! Возможно, после смерти эту же лошадку можно будет погонять еще разок?
В общем, глубокообсасываемая моя Алиса-Армян-Армен, откусываю тебе пальчики и желаю всего никакого – в добрый путь!
P.S.: К письму прилагается прекрасное гнилое сверло и немного крови заката! Что делать ты, конечно, знаешь — ты ведь уже шестой год только этим и занимаешься, безумица моя!
Твой».
А у нас Вечность расползающегося в бесконечность Ада сплетена из Любви, а у вас?
А у нас химическое солнышко прожигает нам души и личности, а мы тому и рады, кислотный дождик-кислотный душик, приятно бодрит посреди адского утра, что может быть лучше, а у вас?
А у нас миллиарды рожают себе в десятилетиях тщетной родовой агонии мертвых двойников, которые никогда не рождаются полностью и волочатся следом, наполовину рожденные, наполовину еще внутри своих рожениц. Правда, стоит приблизиться, как каждый хватает это мертвое отребье, поднимает перед собой и притворяется им, гримасничая и прячась за торчащим нелепым мясным мешком с гноем, только я вот так не делаю, не смотрите сюда, лицо у меня вот, вот, я рукой его трясу! А у вас?
А у нас Ад сделан из Любимой, солнце обращается мясным гнойным катышком, наполненном червями, а сияние души падает и становится эгоистическим водоворотом мыслей. А у вас?
А у нас к вулкану Фродо отправили, поэтому все уже стали Брунсвиками и отвечать некому! :’(((
Какая жалость, господи.
И только десятки, сотни прекрасных девочек взвивались в воздух и падали, падали под колеса железных червей, обдавая меня водопадами крови раз за разом, раз за разом… Девочки были искренне чисты, белоснежно прекрасны, будто нарисованы неизвестным романтиком не из нашего Города.
Их поступок был поэзией, их последние мгновения, пусть даже всего лишь в моем сознании — атомным грибом витальности. То, как их безупречные тела, исполненные искусности архитектора мягкости и упругости, развязывались в красное и иссиня-фиолетовое, было подобно сжиганию девятисот девяносто девяти журавликов.
Это мгновение я был готов с искренней любовью и трансцендентной нежностью обнять и, баюкая, проедать в нем сладкие дыры острым своим хищным языком, сгорая от сладострастия к позе события, его месту среди прочих и внутренней архитектуре, безупречной, как самурайское хокку перед самым клинком в брюхе. А ведь сколько таких моментов, а сколько в них разнообразных натурщиц!
Я даже не сразу понял, что из-под капюшона того, кого я так обнимал и пролизывал, валит черный дым.
«Нет, я все.
Ну то есть я, конечно, не все ни разу, но я подумал, что пора бы уже все, так как в данной мировоззренческой системе и системе ценностей я должен все, так что я все, хотя я не все ни разу, а то сумку-то ведь утащат, наверное?.. Да и кольцо отнести надо, правильно ведь, вот я и несу, я ведь несу затем, чтобы все, верно?
Как там было… Нескончаемый прогресс, ага.
Не смотри на меня так, мерзкая вещь. Я все. Чем бы ты ни был, кем бы ты ни был — я все, слышишь?! Я все. Честно, правда, ну правда, все! Ну, все! Нет, я все!
Все! Все. Все? Все…
А знаешь, есть несколько занятных эпизодов…»
Тот, кто увидел дверь и, потянувшись было к ней, отвратился было от сидящего посреди комнаты на стуле господина в черной мантии, из-под низко опущенного капюшона которой валил черный дым, в нерешительности застыл, не смея оборвать пуповину, уже и без того достаточно туго натянувшуюся между этими двумя.
«Ну, знаешь!.. Я, например, вижу кое-какие вещи, которые ты производишь, хе-хе-хе, шалун, я все‑е замечаю, да! – Не отвратившийся подхалимски смеется, грозит фигуре в черном пальчиком, качает головой умильно. – И в какой момент ты меня под локоть толкаешь там, где ничего не должно само собой произойти, и как ты мне разные, хе-хе, мыслишки подбрасываешь… Казусы разного рода, хе, да все на один манер… Ну, чтобы занять меня! Болтаешь все, болтаешь, заболтал меня совсем! — Он утыкает руки в бока и улыбается уже спокойно и приветливо. — А я все вижу и все понимаю, и действовать буду соответственно, так и знай! — Теперь он доволен собой, спокоен и даже расположен к господину в черном. — И вот как ты в последнее время все с вишудхой мне крутишь, да как после Сердца-то ты последнего взбеленился-то с ней, а, за ночь мне такое устроил, хе-хе, а я увидел, увидел, да! Оценил, проанализировал, и даже свой ход сделал! Но я, конечно, не принес тебе этого в жертву, когда рассказал все, правда?»
Не отвратившийся не до конца уверен в том, что все правильно делает, все еще стоя посреди комнаты напротив фигуры в черном, хоть дверь и не заперта.
***
Я живу в прекрасном Городе.
Я сделал этот Город из тонких костей, белого мяса, тугих жил и гибких суставов. Я ничего с ним не делал, но он закрутился вокруг меня подобно водовороту; из тонких костей выросли высокие светлые стены, из белого мяса — прозрачное хрустальное небо, скорее для простора, чем для цвета или света; из тугих жил — длинные и уютные улицы, а из гибких суставов — красная пустыня с островерхими дюнами черепичных крыш.
Я прекрасно жил в этом милом моему сердцу Городе, я смог поселить там То, Откуда пришел, пусть даже То не было местом, но я посадил его везде, ведь То цвело первую очередь в моем собственном сердце, откуда и росли на самом деле стены, улицы, небо и крыши.
Давайте будем честными с самими собой. ЭТО я сделал сам, своими руками, осознанно и без всяких смягчающих обстоятельств.
После того, как я закончил располагать мозаичные мостовые относительно мостовых из белого булыжника; после того как я завершил центральную площадь и нанес последние штрихи на расположение поворотов и переходов в круговых улицах; после того, как смутные призраки жителей на улицах и в домах обрели жизнь и окончательно выросли, наполненные сиянием, из моего сердца; после того, как я соединил в единый сюжет все изображения всех витражей Города; после того, как завершилась пьеса, начатая на первых домах в барельефах и лепнине, а законченная в статуях и картинах на домах последних; после того, как я насадил парки и придумал достаточное количество разнообразных видов цветов и деревьев; после того, как я отладил гармонию смены солнц лунами, а лун — солнцами и определил количество дождливых дней и дней солнечных, я поддался.
Конечно, Он пришел извне. Внутри просто не было бы ничего, из чего Он мог бы вырасти, хотя потом Он, конечно, рос из моего сердца вместо То. Не помню, когда он начал сеять свои странные семена, семена Чумы. Я, честно сказать, и лица-то его не помню, не потрудился даже в лицо ему взглянуть, когда он явился, да и не понял я, когда это произошло. Но однажды я проснулся и увидел, что из меня растет что-то совсем не То.
Заткнись, уйди, умри! Нет, я не помню, я просто однажды проснулся, а все уже было сделано!.. Нет, БЫЛО! Было сделано, а я… А я спал и потом проснулся… Это Он сделал! Он! Я… Я спал и потом проснулся, а все уже сделано!.. Так все и было! Я сам… Я сам ничего…
Из-под капюшона его валит дым. Однажды он просто пришел ко мне и показал кое-что. А потом еще кое-что, а потом еще кое-что.
И сказал мне: послушай! И сказал: осознай! И сказал: угляди!
Вон! Вот! Смотри, смотри, не просмотри!
И я поглядел, и рукой взгляда сорвал плод, расположенный в его внимании, а не в моем.
Тяжело, надсадно дышали улицы моего Города, и я вдруг понял, что он больше не растет из моего Сердца и это — главное достижение Чумы. Мертвые, пустые люди ходили по его улицам, заляпанным кровью и гноем; проржавевшие насквозь белые когда-то стены рушились, превращая улицы в уродливые развалины, и это была не худшая судьба — все лучше, чем стать конструкцией из камня, крови, мяса и болезни.
А он сказал мне: Нескончаемый!
И сказал мне: Неизбывный!
И потом сказал мне — Неотвратимый!
А потом я снял капюшон и увидел, что из моих глаз течет черный дым.
Я прекрасно живу в своем Городе.
© Chmnoy, 2011






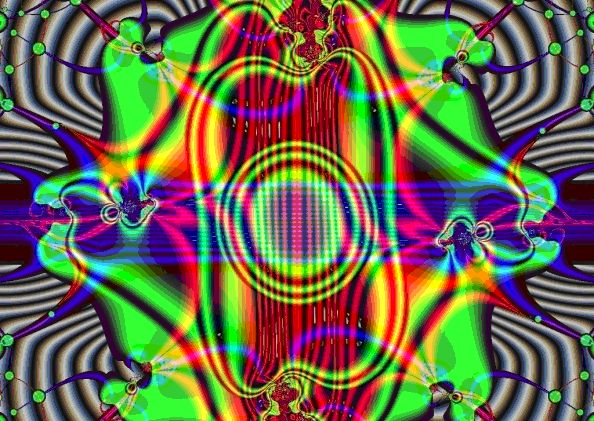



Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: